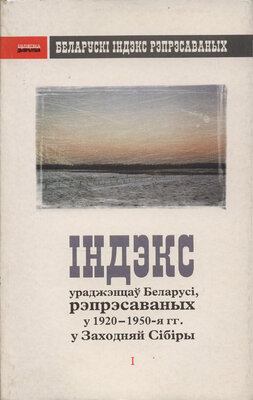Індэкс ураджэнцаў Беларусі, рэпрэсаваных у 1920-1950-я гг. у Заходняй Сібіры
Том 1
Ігар Кузьняцоў
Выдавец: Медысонт
Памер: 240с.
Мінск 2002
кого металлургического завода и т. д.
1 июня 1922 г. был принят Уголовный Кодекс Российской Федерации. Этим Кодексом и его редакцией от 1926 г. в Беларуси пользовались до 1928 г. Широко известна печально знаменитая статья 58 этого Кодекса — «Контрреволюционные преступления». Она имела 14 пунктов, 13 из них предусматривали высшую меру наказания — расстрел. Наиболее часто в 1930-е гг. обвинения предъявлялись именно по статье 58: п. 1 — «измена Родине», п. 6 ■— «шпионаж», п. 7 — «подрыв государственной промышленности, транспорта, кооперации», п. 8 — «совершение террористических актов», п. 10 — «контрреволюционная/антисоветская пропаганда и агитация», п. 11 — «участие в контрреволюционной организации».
Почти половина всех обвиненных в 1930-е годы были осуждены по ст. 58 п.10, которая предусматривала уголовную ответственность вплоть до применения высшей меры наказания за клеветнические высказывания в адрес руководителей партии и правительства, за дискредитацию внешней политики СССР, ведение религиозной пропаганды, за высказывание пораженческих настроений и попытки дискредитации РККА, за высказывания об экономическом положении трудящихся в СССР и восхваление капитализма, за контрреволюционные выпады против коммунистов, за систематический отказ от работы в лагерях НКВД и т. д.
Уголовный кодекс Белорусской ССР был утвержден на 3 сессии VIII созыва 23 сентября 1928 г. Согласно данному кодексу уголовные преступления разделялись на две категории: направленные против советского строя и на все остальные. За преступления первой категории устанавливался только низкий (минимальный) предел, ниже которого суд не мог назначить наказание или, как говорилось в кодексе, меру социальной защиты. За преступления второй категории был установлен только высший предел. По кодексу 1928 г. лишение свободы не могло превышать 10 лет, однако в последующие годы он был доведен до 25 лет.
Обращает внимание и очень широкий спектр уголовных преступлений, за которые суды могли назначить высшую меру на
казания (ВМН). Так, в главе 1 «Контрреволюционные преступления» из 17 перечисленных составов уголовных преступлений 14 предусматривали высшую меру наказания. По многим уголовным преступлениям, в том числе и не представляющим большой общественной опасности (отказ от внесения налогов, убой скота и др.), была предусмотрена конфискация всего имущества.
Почти все составы «контрреволюционных преступлений» предусматривали также и «меры социальной защиты» следующего характера: объявление осужденного врагом трудящихся с лишением гражданства БССР или иной союзной республики и тем самым гражданства СССР; полное или частичное лишение прав; удаление из Союза ССР на определенный срок; запрещение проживать в тех или иных местностях.
Важно подчеркнуть, что если суд лишал подсудимого прав, тот терял не только политические права, но и возможность поддерживать элементарный уровень своего материального жизнеобеспечения: при полном лишении прав запрещалось занимать те или иные должности, получать пенсию, пособие по безработице, иметь родительские права и т. д.
Изучение архивно-следственных дел необоснованно репрессированных показывает, что наиболее распространенным было обвинение в «измене Родине», т. е. в действиях, совершенных гражданином СССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории — шпионаж, бегство или перелет заграницу. Суровое наказание ожидало и родственников виновного. Если совершеннолетние родственники знали о намерении бежать, но не доложили или способствовали готовящейся или совершенной измене, они карались лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Другие совершеннолетние члены семьи изменника, проживавшие с ним совместно, подлежали лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на пять лет. Таким образом, в самом законе была заложена возможность репрессий в отношении лиц, по сути, не совершивших никаких преступлений.
Вначале репрессии не носили такого массового характера. Однако с каждым годом маховик «красного террора» раскручи
вался все сильнее. Суды не справлялись с нарастающим «валом». Все больше дел стало рассматриваться в упрощенном порядке несудебными органами — «двойками», «тройками», Особыми совещаниями. По существу, эти органы никому не были поднадзорны и действовали по собственному усмотрению. Прокурорский надзор отсутствовал, а прокуроры нередко сами подвергались репрессиям.
Возникновение репрессивной системы на рубеже 1920-1930х гг. было не случайным, а закономерным явлением: когда в конце 1920-х гг. встал вопрос об источниках осуществления ускоренной индустриализации страны и о методах коллективизации крестьянства, у сталинского руководства был уже готов ответ — орудием проведения индустриализации и коллективизации должен был стать развитой репрессивный аппарат в виде исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) ГУЛАГа НКВД СССР. Отныне все уже осужденные на срок 3 года и выше переводились из мест заключения в ИТЛ, куда направлялись и все приговоренные судами к названным срокам.
К 1930 г. было сформировано 6 управлений исправительнотрудовых лагерей ОГПУ СССР Северного Кавказа, района Белого моря и Карелии, Вышнего Волочка, Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Лагеря и трудовые колонии начинали играть все более заметную роль в экономике страны. Труд заключенных стал применяться в реализации крупномасштабных хозяйственно-экономических проектов, а хозяйственные органы планировали свою деятельность с учетом возможности использования заключенных. Круг замкнулся в 1934 г., когда с созданием общесоюзного НКВД все советские лагеря были объединены в единую систему Главного управления лагерей (ГУЛАГ).
Четкое функционирование всей репрессивной системы обеспечивали карательные органы. Еще в 1922 г. был создан единый общесоюзный орган — Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Система его органов состояла из ОГПУ СССР, ГПУ союзных республик, политотделов при исполкомах Советов и особых отделов в Красной Армии и на транспорте.
В декабре 1930 г. НКВД союзных республик упраздняются,
а их функции стали выполнять созданные при СНК республик управления милиции и угрозыска. В СССР по-прежнему действовало ОГПУ СССР, а для руководства органами милиции союзных республик и для проведения в СССР паспортной системы в 1932 г. было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР.
В 1934 г. образуется НКВД СССР. Вместо ОГПУ в системе НКВД СССР создается Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). В НКВД также, кроме репрессивной функции, были сосредоточены функции охраны границ, управления шоссейными и грунтовыми дорогами, руководство геосъемкой и картографией, лесной и пожарной охраной. В его ведении находились вопросы, связанные с переселенцами, органы ЗАГСа. Таким образом, НКВД осуществляла тотальный контроль за всеми сферами жизни советского общества.
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. в СССР была создана и хорошо отлаженная и материально обеспеченная система судебных и несудебных органов. Система судебных органов Беларуси была представлена Военной коллегией Верховного суда СССР, Верховным судом БССР, областными судами, судом Белорусской железной дороги, военными трибуналами Белорусского военного округа и различных войсковых формирований, в том числе НКВД.
Наряду с судебными органами существовала также система несудебных органов. Она начала формироваться в СССР и БССР еще в 1923 г. 15 февраля 1923 г. постановлением ЦИК СССР была учреждена судебная коллегия ОГПУ. Она имела право рассматривать во внесудебном порядке дела о диверсиях, вредительстве и других преступлениях и применять все меры наказания.
По постановлению ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 г. при Народном комиссариате внутренних дел было образовано Особое совещание. Этому органу первоначально было предоставлено право применять к лицам, «признаваемым общественно-опасными», ссылку, высылку и заключение в лагерь сроком на 5 лет, затем его права были значительно расширены вплоть до применения высшей меры наказания. В состав Особого совещания входили: народный комиссар внутренних дел, заместитель
народного комиссара внутренних дел, начальник Главного управления милиции. Одновременно в 1934 г. был создан еще один несудебный орган — комиссия СССР и Прокурора СССР по следственным делам («двойка»).
Среди карательных органов особо зловещую роль в развертывании массовых репрессий сыграли Особое совещание и «тройки» ОГПУ—НКВД. Циркулярами ОГПУ от 29 октября 1929 г. и 8 апреля 1931 г. в центральном аппарате НКВД были образованы «тройки» для предварительного рассмотрения законченных следственных дел и последующего их доклада на судебных заседаниях коллегии или Особого совещания. В их состав входили руководители оперативных управлений — отделов ОГПУ и полномочного представительства (ПП) ОГПУ.
Циркуляром 1931 г. предусматривалось обязательное участие в заседаниях «троек» представителя прокуратуры ОГПУ. Постановлением Президиума ЦИК СССР от 3 февраля 1930 г. ОГПУ было предоставлено право на время проведения кампании по «ликвидации кулачества» передоверять свои полномочия по внесудебному рассмотрению дел ПП ОГПУ в республиках, краях и областях с тем, чтобы внесудебное рассмотрение дел проводилось с участием представителей облисполкомов и прокуратуры.
В 1929 г. острие репрессивной машины было направлено в основном против крестьянства, которое составляло основную массу населения СССР. К политическим репрессиям с полным основанием можно отнести и «раскулачивание», массовое и трагическое по своим последствиям. С конца 1929 г. до середины 1930 г. в СССР было «раскулачено» свыше 320 тысяч семей (не менее 2 миллионов человек), конфисковано имущества стоимостью свыше 400 миллионов рублей. По оценочным данным, в Беларуси в 1920-1940-е гг. было «раскулачено» не менее 350 тысяч человек.
Массовые репрессии против крестьянства партийные и советские органы объясняли обострением классовой борьбы в деревне и всю вину возлагали на «кулаков». Под удар попали и значительные массы зажиточных «середняков», которые лишь эпизодически применяли наемный труд или не применяли его
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН