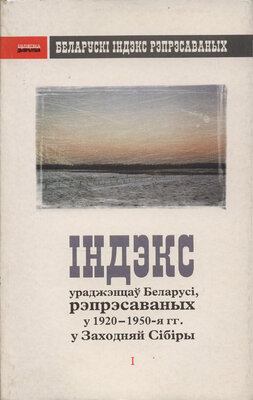Індэкс ураджэнцаў Беларусі, рэпрэсаваных у 1920-1950-я гг. у Заходняй Сібіры
Том 1
Ігар Кузьняцоў
Выдавец: Медысонт
Памер: 240с.
Мінск 2002
ции повстанческих легионов и к непосредственной подготовке вооруженного восстания. Членом «Сибирского комитета» Сосенко был разработан план вооруженного восстания, которым предусматривалось следующее... легионы начинают выступление одновременно в момент военного нападения на СССР со стороны Польши, Германии и Японии; в момент восстания повстанческие отряды легионеров должны разгромить партийно-советские организации, разоружить милицию, охрану предприятий, партийно-советский актив, обратив отобранное оружие на вооружение повстанческих отрядов... Наряду с активной подготовкой к вооруженному восстанию, участники «ПОВ» на территории Нарымского округа занимались шпионско-диверсионной деятельностью, систематически собирали сведения шпионского характера, которые сосредоточивались в руках агента польского главного штаба Сосенко, и последним передавались польским разведывательным органам...» (Из обвинительного заключения от 3 октября 1937г. поделу№ 713819участников «Польскойорганизации войсковой».)
Сосенко арестовали 11 августа 1937 г. После предварительного допроса в Колпашево отправили в Новосибирск. Основательно «обработанный» специалистами из органов, Сосенко на допросе у начальника УНКВД по Запсибкраю майора госбезопасности Горбача признался в том, что в 1924 г. был нелегально переброшен в СССР со специальными заданиями польских разведорганов. Сосенко «признался» своим следователям во многом: протоколы допросов насчитывали около двадцати страниц печатного текста. В этих протоколах отсутствуют подписи подследственного, без которых они не считаются документами. И все же, несмотря на такую «оплошность», копии протоколов допросов Сосенко Александра были приобщены в качестве улик к делам тысяч сибирских поляков и белорусов, в том числе и жителей села Белосток. Постановлением Особого совещания НКВД СССР от 20 октября 1937 г. Сосенко был приговорен к расстрелу, который был приведен в исполнение 5 ноября того же года.
«Конвейер смерти» работал исправно. Когда кончалось «сырье», доставлялись новые партии. «Врагов народа» создавали искусственно. Областные и городские управления НКВД получа
ли разнарядки из центра на выявление их определенного количества. На основании этого УНКВД по Западно-Сибирскому краю давало соответствующие «задания» по районам и требовала на очередной месяц или квартал новых «конкретных» цифр. Например, Томский горотдел НКВД от УНКВД по ЗападноСибирскому краю ежемесячно получал контрольные цифры на 3-5 тысяч человек. Из них не менее 60% предлагалось осудить по первой категории, т. е. расстрелять. Затем разными путями, в том числе — с использованием доносов секретных осведомителей и общественных «помощников», а также новых «признательных» показаний, полученных на допросах, и т. п., составлялись списки конкретных людей для арестов под «разнарядку».
«Партия и правительство продлило срок работы «троек» до 1 января 1938 года. За два-три дня, что осталось до выборов в Верховный Совет СССР, вы должны провести подготовку к операции, а 13 декабря — после выборов, начать заготовку. Даю вам три дня на заготовку, а затем вы должны нажать и быстро закончить дела... Возрастным составом арестованных я вас не ограничиваю — давайте стариков. Нам нужно нажать, т. к. наши уральские соседи нас сильно поджимают. По РОВСу вы должны дать до 1 января 1938 года не менее 1100 человек, по полякам, латышам и др. не менее 600 человек в день, но в общей сложности я уверен, что за эти дни вы догоните до 2000 человек. Каждый ведущий следствие должен заканчивать не менее 7-10 дел в день — это немного, т. к. у нас в Сталинске и Новосибирске дают по 12-15 дел в день... Учтите, что ряд горотделов -— Кемеровский, Прокопьевский и Сталинский — нас могут опередить. Они взяли на себя обязательства выше, чем я вам сейчас предложил...» (Из выступления 10 декабря 1937 г. начальника УНКВД по Запсибкраю И. А. Мальцева на совещании оперативного состава в г. Новосибирске.)
Существовали специальные бланки отчетности. По графам было распределено сколько, из каких слоев «изъять», представителей каких национальностей, отдельно военных, служителей культа и т. д. Дело доходило до того, что в общую численность обозначенных в «разнарядке» лиц, которых необходимо было арестовать, сразу включались цифры «под расстрел». Перевы
полнять «норму» разрешалось, а вот за невыполнение грозило встречное наказание — вплоть до высшей меры «социальной защиты». Поэтому практиковались расстрелы арестованных в «подходящем» месте — в лесу, в овраге, на кладбище, чтобы потом, задним числом, оформить дела с «признательными» показаниями.
«В августе 1937 года начальник Томского горотдела НКВД И. В. Овчинников вызвал меня к себе в кабинет и спросил, сколько дел я и мои следователи закончили. Я ответил, что пока еще ни одного дела не закончено, потому что условий для следственной работы не создано, да и времени еще недостаточно (прошло 7-10 дней). Овчинников дал мне срок 5 дней и предупредил, чтобы в течение этого срока от вас поступили ряд дел. В течение 5 суток один или двое следователей получили признательные показания, кажется, двух обвиняемых об их антисоветской деятельности. Но полностью закончить опять-таки ни одного дела не удалось. О чем я доложил Овчинникову. Выслушав меня, Овчинников выругался нецензурно, назвал меня оппортунистом и пообещал расправиться со мной, если я буду саботировать мероприятия партии и правительства. Тогда он заявил мне примерно так: «Ты оппортунист, ты не желаешь вести борьбу с контрреволюцией. Я распишу тебя так в характеристике, разделаю, как бог черепаху, что тебе на земле места не будет. У нас в горотделе один следователь дает по 10 дел в сутки, а от тебя и твоих следователей в течение 10 дней не поступило ни одного дела. Если так будешь продолжать и дальше, то я поставлю о тебе вопрос перед начальником УНКВД...»{Из показаний бывшего начальника Кожевниковского райотдела НКВД Д. К. Салтымакова 24 сентября 1956 г.)
Для активизации этой «работы» между городскими и районными отделами НКВД было развернуто «социалистическое соревнование»: победителем объявлялся тот, кто больше арестует «врагов народа» по указанным категориям. По итогам 1937 г. среди горотделов НКВД Западно-Сибирского края победителем оказался томский горотдел, за что его начальник капитан госбезопасности Овчинников был представлен к ордену Ленина. Среди горотделов НКВД БССР первое место занял слуцкий во гла
ве с лейтенантом госбезопасности Таракановым.
В целях получения нужных признаний аресты и допросы сопровождались пытками. Сталин от имени ЦК ВКП (б) санкционировал применение физических методов воздействия против подследственных, о чем свидетельствовала шифрованная телеграмма, направленная 10 января 1939 г. секретарям обкомов, крайкомов, начальникам управлений НКВД. В ней, в частности, утверждалось: «ЦК ВКП (б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП (б)... ЦК ВКП (б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь...»
Что же превращало абсолютное большинство работников НКВД в садистов? Что заставляло их преступить все законы и нормы человечности? Главная причина — страх оказаться в положении заключенного. Это чувство подавляло все иные. Кроме того, в органах НКВД все время шел «естественный» отбор: более гуманных отсеивали, самых жестоких и невежественных оставляли.
Например, уроженец Минской губернии начальник Ямальского окружного отдела НКВД Богданкевич во время приведения приговоров в исполнение организовывал пьянки для сотрудников за счет средств, изымаемых у осужденных к расстрелу. Часть этих средств шла также на оплату осведомителям. Во время допросов Богданкевич практиковал изощренные пытки: держал арестованных несколько часов по стойке «смирно», издевался над женами арестованных в присутствии мужей, применял конвейерный допрос, который длился нескольких суток, во время допросов заставлял сидеть заключенных на ребре ножек табуреток; производил корректировку протоколов допросов (предварительного писал их на черновиках, затем перепечатывал на машинке, вставляя «шпионаж» и «диверсии», а потом заставлял арестованных, угрожая пистолетом, их подписывать) и т. п. За совершенные преступления А. И. Богданкевич в 1938 г. был осужден Военным трибуналом войск НКВД на 5 лет лишения свободы, а в 1940 г. освобожден. Это только один из примеров активной «деятельности» НКВД и методов, которые активно использовали в своей прак
тике сотрудники органов от Бреста до Владивостока.
Весь СССР, в том числе и Беларусь, был покрыт густой сетью тюрем и следственных изоляторов НКВД — всего карательных учреждений насчитывалось не менее 800-900 (точное число установить не представляется возможным). Как правило, они дислоцировались в областных центрах РСФСР и столицах союзных и автономных республик. В Москве, Ленинграде и Минске находилось свыше десятка тюрем и изоляторов специального назначения.
Хотя до сих пор на территории Беларуси не выявлено наличие в 1930-1940-е гг. исправительно-трудовых лагерей, это вовсе не означает их реального отсутствия. Наличие пересыльных тюрем и лагерей в Минске, Витебске, Могилеве, Слуцке, Гомеле позволяло держать там одновременно «спецконтингент» в 1520 тысяч человек. Срок пребывания «этапируемых» в пересыльных тюрьмах и лагерях зависел от «оперативности» администрации и мог длиться от нескольких часов до нескольких месяцев, а в среднем — 12-14 суток.
В период проведения массовых арестов, особенно в 1937— 1938 гг., когда органами НКВД БССР производились одновременно аресты несколько тысяч человек, возникла необходимость незамедлительного «этапирования» осужденных и подследственных к местам отбытия наказания. Из пересыльных тюрем и лагерей, расположенных на территории Беларуси, «этапирование» шло по следующим маршрутам: Витебск— Ленинград—Петрозаводск; Витебск—Вологда—Архангельск; Минск—Витебск—Вологда—Котлас; Минск—Москва— Владимир—Киров—Сыктывкар; Могилев—Брянск—
Воронеж—Куйбышев; Гоме ль—Чернигов—Запорожье; Минск—Москва—Казань—Свердловск—Воркута; Минск— Москва—Омск—Новосибирск—Красноярск—Норильск; Минск—Москва—Чита—Якутск—Магадан—Колыма и др. В одном таком этапе насчитывалось иногда несколько сотен человек, которые, в основном железнодорожным транспортом, перебрасывались на расстояние в тысячи километров.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН