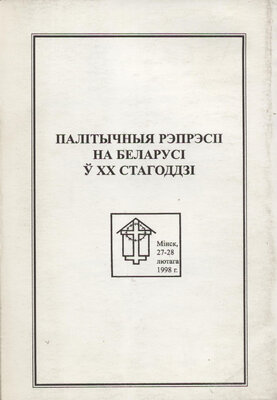Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі
Матэрыялы канферэнцыі
Памер: 278с.
Мінск 1998
Говоря по другому, Лукашенко считает, что функции спецслужб должны оставаться прежними, какими они были в СССР. Беларусь — единственная і юсткоммунисгическая страна, где КГБ сохранил свое старое название.
Можно, конечно, сказать, что не в названии суть. Но название гоже говорит о многом. Представим, например, что сегодня в ФРГ спец-служба называлась бы “гестапо”.
20 декабря 1997 г. Беларусь торжественно отпраздновала 80-летие ВЧККГБ. Из всех постсоветских государств эту дату отметили еще в России. В том же году в Беларуси на официальном государственном уровне отпраздновали 120-летие со дня рождения Ф.Дзержинского. Председатель КГБ В. Мацкевич заявил, что в 1997 г. белорусские чекисты будут действовать под девизом “Жить и работать по Дзер-жинскому”. КГБ взяло
Палітычныя рэпрэсіі на Белапусі ў XX стагоддзі . шефство над музеем “железного Феликса' и призвало через “Советскую Белоруссию” предприятия, организации, частных лиц оказать материальное содействие в проведении его ремонта.
Между тем, отвлекаясь or исторической оценки этого деятеля и его личных качеств, необходимо констатировать, что образ Ф. Дзержин-ского — это символ. Причем символ зловещий для всего цивилизо-ванного мира. Именно “рыцарь революции” оказался отцом-основа-телем той всепроникающей системы всеобщего сыска и подавления, которая пронизала насквозь советское общество, стала своеобразным государством в государстве. Советское КГБ было основным несущим элементом тоталитарной конструкции. Неслучайно?! августа 1991 г. после поражения ГКЧП, означавшей окончательный крах комму-нистической цивилизации, защитники демократии в Москве первым делом разрушили памятник Дзержинскому на Лубянке перед зданием КГБ.
Совсем не случайно в государственных СМИ появилась статья А. Залесского, оправдывающая сталинские репрессии. А прокуратура получила задание разруши ть единс твенный официально признанный в Беларуси символ тоталит аризма, доказать, что в Курапатах расстре-ливало не НКВД, а гестапо.
После ноября 1996 г. власти перестали маскировать, что одной из важнейших функций спецслужб является борьба с политическими противниками режима и лично президента. Председатель КГБ В. Мацкевич через месяц после референдума пост авил перед белорус-скими чекистами задачу не пропустить попытки политической оппозиции, “подстрекаемой внешними прот ивниками Беларуси”, “реанимировать” свои структуры и дестабилизировать обстановку в стране. (Белорусская деловая газета, 23 декабря 1996 г.).
Президент не скрывает, а от крыто демонстрирует шокирующие для демократического общества факты, что ведется тотальное прослушивание переговоров. Причем не только оппозиции, а и иностранных послов, российских журналистов и даже премьер-министра. На совместном заседании Кабинета Министров и Совета безопасности в 1996 г. А. Лукашенко, желая i юхвалит ь главу правительства М. Чигиря, простодушно заявил, что он даже дома в приватных разговорах с женой нс позволяет себе критиковать президент а.
Вынесенные президентом на рассмотрение Национального Собрания и утвержденные последним законы “Об органах государственной безопасности Республики Беларусь”, “О государственной охране” предоставляют спецслужбам правовую основу для неограниченного
вмешательства в деятельность всех (в том числе негосударственных) хозяйственных структур, НГО, партий, частную жизнь іраждан. Первый закон реанимирует функции КГБ, которые он имел в СССР, являясь одновременно спецслужбой, правоохранительным органом и органом государственного управления.
* * *
Авторитарная сущность режима Лукашенко, неотъемлемым элементом которой являются политические репрессии, проявилась уже через несколько месяцев после президентских выборов. Первыми “попали под лошадь” журналисты государственных СМИ. “Белые пя тна” в газетах, смещение редакторов “Советской Белоруссии”, “Республики”, “Знамени юности”, “Народной газеты”, изгнание из БТ наиболее известных журналистов стали первыми признаками наступления новых времен.
Впервые физическая сила против политических оппонентов была применена в апреле 1995 г. в отношении депутатов от БНФ, объявивших голодовку в здании Верховного Совета.
Следующим шагом властей было насильственное подавление забастовки работников минского метрополитена.
Однако массовый характер репрессии приобрели тогда, когда началось массовое сопротивление, — весной 1996 г. Тактика устраше-ния и запугивания, взятая на вооружение властями, проявилась в избиении ОМОНом участников уличных акций протеста. Тогда же появшіся новый термин — “хапун”, означавший массовое задержание не только участ ников шествий, но и случайных людей.
Весной 1996 г. в полной мере проявилась истинная сущность наших судов, их превращение в репрессивный инструмент в руках исполнительной власти. Суды действовали как “тройки” сталинских времен. Некоторые заседания, на которых судили участников уличных акций, проводились на территории тюрьмы, куда, естественно, доступ журналистов, родственников, представителей общественности был перекрыт.
Тогда же появились первые политические заключенные (10. Хо-дыко, В. Сивчик).
После ноября 1996 г. в политике репрессий произошли качествен-ные изменения. Прежде всего, в результате референдума оппозиция оказалась выброшенной из политической системы, превратилась во внесистемную. Это означает, что если не юридически, то факгически оппозиция стала как бы незаконной. Поскольку институциональные способы борьбы или просто оппонирование власти исчезли, то противники режима вынуждены 239
Палітычныя рэпнэсіі на Беларусі у XX стагоддзі . прибегать ко внеинституциональным формам (митинги, шествия, пикеты и т.д.), которые официально объявляются нелегитимными со всеми вытекающими отсюда последствиями.
После вступления в силу новой Конституции, предоставившей президенту фактически неограниченные полномочия, степень репрессивности режима зависит только от Лукашенко, его понимания целесообразности тех или иных действий. Сдержки и противовесы в политической системе исчезли.
Президент встал на путь введения чрезвычайного репрессивного законодательства. В качестве примера можно привести только два декрета: “О собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрации и пикетировании в Республике Беларусь” и “О неотложных мерах по борьбе с терроризмом и иными особо опасными насильственными преступлениями”. В специальном письме администрации президента разъяснялось, что “временный декрет всегда имеет верховенство в отношении любого нормативного акта (кроме Конституции)” (Белорусский рынок, 1997, № 4).
Декрет о терроризме настолько широко трактует это понятие, что под него можно подвести любой публичный протест. Этот подзаконный акт вводит не только чрезвычайные суды, но и новые уголовные наказания вплоть до 20 лет лишения свободы, пожизненного заключения и смертной казни.
Власти подготовились к “Весне-97” лучше, чем к “Весне-96”. На полную мощность была запущена машина подавления сопротивления режиму. Избиения демонстрантов (самый яркий пример — 2 апреля), массовые задержания после уличных акций, преследования по месту работы или учебы приобрели новые масштабы.
Появились новые формы судебных і іреследованйй. Наиболее видным оппозиционерам стали присуждать гигантские штрафы. Пять участников весенних демонстраций позже осудили но уголовной статье. С арестом Шидловского и Лабковича политические заключен-ные стали постоянным фоном общественной жизни Беларуси.
Более активно власти начали применять уголовные методы борьбы против своих противников: избиения “неизвестными”, другие формы насилия. В числе пострадавших жена Дракохруста, Лебедько, Герменчук, Бебенин, Хащеватский.
Важным направлением репрессий стала очень последовательная и целенаправленная политика по удушению структур гражданского общества, независимых от государства НГО. Весной были ликвиди-рованы 240
или парализованы наиболее известные и опасные для власти организации: фонд Сороса, фонд “Детям Чернобыля”, НЦСИ” “Восток -Запад”. Власти убеждены, что любая негосударственная организация, даже не ставящая напрямую политических задач, представляет опасность для режима. Неподконтрольные власти общественные объединения и рыночные структуры запускают механизм разрушения формируемой системы.
В конце 1996 г. А. Лукашенко признался, что его главными противниками стали журналисты. Действительно, в условиях, когда большинство партий оказалось в полуподполье, независимые СМИ выполняют функцию политической оппозиции. Вполне закономерно, что пропагандистская война против них была дополнена прямыми репрессиями против журналистов. Их избиение во время весенних демонстраций, высылка А. Ступникова, арест И. Шеремета, закрытие “Свободы”, за которой скорее всего последует ликвидация других независимых газет (а иначе нет смысла вызывать волну международ-ной обструкции из-за одного издания), стали логическим следствием нового качества режима.
Репрессии выполняют несколько функций. Одна из них — внедре-ние в общественную жизнь фактора страха. Причем не только для запугивания ныне существующих или потенциальных противников режима. Страх должен стать важным фактором экономической жизни. В рамках формируемой экономической модели роль материальных стимулов, которые в нормальных хозяйственных условиях являются основным двигат елем развит ия, сильно ограничена. Опыт строитель-ства социализма показывает, что в какой-то мере их можно заменить энтузиазмом и страхом. Для энтузиазма нужны великая идея, которой у режима нет. Остался фактор страха. В 30-е гг. “борьба с вредитель-ством” выполняла важную хозяйственную функцию. Сегодня с помощью страха президент пытается заставить работать на полную мощность умирающую экономическую модель, выжимая из нее последние соки. Его действия по-своему логичны. Либо менять сис-тему, либо закручивать гайки и строить лагеря.
В этой связи по-другому можно посмотреть на развернутую президентом борьбу с преступностью и коррупцией. В государстве, где право перестало быть регулят ором общественной жизни, виновны все, коррупцией объявляется то, что посчитает президент, а преступником назначается тот, на кого укажет глава режима. И любое “дело” о коррупции из уголовного превращается в политическое.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН