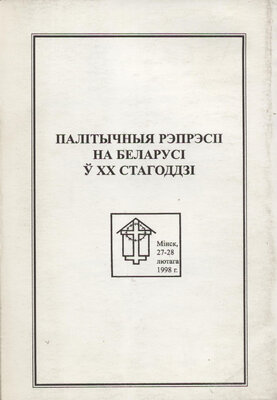Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі
Матэрыялы канферэнцыі
Памер: 278с.
Мінск 1998
В. Лебедзева. Старонка у мартыралогу: Палута Бадунова . у здзяйсненні гэтай ідэі ўсімі мерамі на захоп улады, уключаючы інтэрвенцыю, шпіянаж і тэрор»16.
Зрэшты, справа П.Бадуновай з’яўляецца досыць тыповай у шэрагу тысяч сабе падобных. Пры гэтым, на наш погляд, яна ўтрымлівае некалькі адметных рыс для характарыстыкі стылю рэпрэсіўнай практыкі канца 30-х гг. Па-нершае, яна сведчыць аб асобым цынізме тагачаснага карнага механізму. Можна з вялікай доляй упэўненасці сцвярджаць, што факт псіхічнага нездароўя Бадуновай, наякі паказвалі сведкі М.Асвяцімскі і А.Бараноўскі, а таксама спрабаваў скарыстаць як аргумент у яе абарону брат Аляксандр, уяўляў для следчых асобую цікавасць і быў выкарыстаны.
Па-другое, ужо маючы смяротны прысуд. П.Бадунова прыцягвалася як сведка ў абвінавачванні сваіх паплечнікаў, ў у т.л. і роднай сястры Марыі. Ці не было гэта платай за адтэрміноўку прысуду? Менавіта паказанні на вочнай стаўцы сталі адзіным фармальным доказам віны сястры. Гэты прыём быў накіравапы на хуткі маральна-псіхалагічны злом «свежай падследнай» — Марыі.
Па-трэцяе, дата смяротнага прысуду Палуты — 25 мая і прывядзення яго ў выкананне амаль праз паўгода — 29 лістапада (што было парушэннем уведзенаіа з верасня 1937 парадку аб неадкладным выкананні смяротных прысудаў) пацвярджае версію аб стварэнні ў Мінску тайных ад НКУС СССР калоній зняволеных-смяротнікаў, да якіх было магчыма прымяняць неабмежаваныя метады следства, бо юрыдычна гэтых людзей ужо не існавала. Калоніі былі знішчаны з начаткам расследаванняў «яжоўскіх злоўжыванняў», у т.л. і на Беларусі. Апошнія даты жыцця П.Бадуновай сведчаць аб яе магчымым знаходжанні ў адной з такіх калоній.
1 Т. Процька. “Я з’яўляюся першай настаўніцай Менска па арганізацыі працы ў беларускіх школах”. // Настаўніцкая газета. 1994. 23 сакавіка.
2 НАРБ. Ф.4, воп.1. спр. 44, арк. 75.
’НАРБ. Ф.4, воп.1. спр. 118, арк. 28.
4 Там жа.
5 НАРБ. Ф.4. воп.1, спр.158, арк. 29.
6 Архіў Маскоўскага УУС. Ф.8419, адз.зах. 189, арк. 103, 103 адв.
7 Там сама.
8 БДА, ф.15, воп.1, адз. зах. 24, арк. 93, 93 адв.
9 Там сама, арк. 84—86.
10 Архіў Маскоўскага УУС, ф. 8419, адз. зах. 1189, арк. 108.
" Платонаў Р., Сташкевіч М. Дзве апсрацыі супраць “ворагаў народа” П
Палітычныя рэпоэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі .
Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1.С.78.
12 Архіў УКДБ па Гомельскай вобл. Спр. 130/74.
13 Там сама. С. 17.
14 Платонаў Р., Сташксвіч М. Дзвс апсрацыі // Бсларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1. С.76.
15 Архіў КДБ РБ. Спр.8482.
16 Платонаў Р, Сташкевіч М. Дзвс аперацыі..//| Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1.С.76—78.
А.М. ЛИТВИН (Минск, Беларусь)
К ВОПРОСУ О ПОЛ ИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ НА БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Война — это особое состояние общества, позволяющее более четко видеть все его противоречия и трудности. Ни для кого не секрет, что те политические репрессии, которые проводились в 20-е — 30-е годы советскими властями против населения БССР в определенной мере вызывались и трактовались ими как необходимые, исходя из опасности будущей войны. В сознании миллионов советских людей был искусственно создан и закреплен многоликий образ “врага народа”, “врага советской власти”, “конгрреволюционера” и т.д. Первыми, и самыми “злейшими врагами народа” были т.н. “белорусские буржуазные националисты”, или “нацдемы”. Под это определение подходили все белорусские силы, которые в той или иной мере находились или потенциально могли находиться в оппозиции существовавшему в СССР с эрою. Поэтому борьба с ними велась всеми возможными способами как в предвоенные, так и в годы войны.
Необходимо отметить, что политические репрессии против белорусского народа в 20—30-е годы осуществлялись не только советской властью, но и карательными органами Польши. Польские власти вели борьбу как со сторонниками Советской власти, так и белорусским национальным движением.
В силу ряда причин рассматриваемая ныне нами проблема не получила, да по существу и не могла получить, должного научного освещения в отечественной историографии. Главная из них в том, что история репрессий, предпринятых партийно-государственным аппаратом в отношении миллионов советских граждан — бывших военнопленных, угнанных в Германию мирных жителей, а также тех, кто в годы войны проживал на временно оккупированной территории, особенно, в отношении тех, кто в разной степени “сотрудничал” с оккупантами (по своей воле или по принуждению работал на фабриках
А. Литвин. К вопросу о политических репрессиях на Беларуси...
и заводах, в оккупационных органах и учреждениях, частных предприятиях, служил в местной полиции, военных и военновспомогательных службах и т.д.), относилась к важнейшим государственным секретам.
Однако и сегодня, по истечении 50-летнего периода изучения, когда мы имеем возможность посмотреть на эту проблему несколько другими глазами, дистанциируясь не только от времени, но и от идеологических штампов и наслоений бывшей советской историографии, на пути её научного освещения существует множество трудностей, связанных как с известной щепетильностью темы, усугубляемой несовершенством бывшего советского законодательства, наличием в обществе устойчивых стереотипов, так и отсутствием достаточной документальной базы, мемуарных и других материалов. По существу любая попытка объективного освещения этого явления воспринимается определенной частью населения как попытка обеления, реабилитации, реанимации и т.д. бывших коллаборантов, пособников гитлеровцев.
В годы второй мировой войны политические репрессии против белорусского народа осуществлялись немецко-фашистскими оккупантами, карательными органами СССР, в том числе советским партизанским движением, польским Сопротивлением (в основном функционерами Армии Крайовой), литовскими и украинскими националистами.
Разумеется, в одном выступлении невозможно осветить все вопросы политических репрессий на Беларуси в годы второй мировой войны, поэтому мы хотели обратить внимание лишь на вопросы, связанные с репрессиями против тех лиц, которые до войны находились в оппозиции (разумеется это условное название, никакой официальной оппозиции в государстве “диктатуры пролетариата” быть не могло) существовавшему строю, а в годы войны, в той или иной степени сотрудничали с оккупантами.
Часть этой категории лиц, в основном проживавшие в Польше, Германии, Прибалтике, Чехословакии белорусские национальные деятели, в обстановке приближавшейся германо-советской (а ее неизбежность явственно ощущалась всеми белорусскими политическими силами в конце 30-х годов, что видно из белорусской печати, издаваемой за пределами БССР)1, возлагали надежды на перемены, которые произойдут в мире в результате войны. Из статей, которые были опубликованы в конце 30-х годов в еженедельнике “Беларускі фронт”, других изданиях, видно, что в определенных кругах
Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі . белорусской политической эмиграции широко пропагандировались основы белорусской государс твенности и независимости. Эти же силы, подобно большевикам в годы первой мировой войны, надеялись, что в условиях войны они могут нс только поставить, но и решить свои задачи, сделав ставку на фашистскую Германию.
Нетрудно видеть, что эго был весьма опасный путь. Вот что писал один из лидеров Белорусской христианской демокра тии (БХДП) ксёндз В. Годлевский после захва та Германией Чехословакии: “Присматриваясь внимательно ко всем этим делам, необходимо еще раз отметить, что первая проблема, которая выдвигается на повестку дня в европейской политике, это проблема национальная. Ее взялись решать расистская Германия, не из-за принципа, а из тактики: пользуясь запутанностью национальных проблем, Германия думает расширить свое господство на восток. Необходимо признать, что запутанность национальных проблем, а также желание Германии распутать эти проблемы —делает из Германии большую и грозную силу в глазах Советов и др. Только распутает ли Германия эти проблемы? Мы боимся, что она может запутать их еще больше”.2
Тем не менее, зная, о чем писал Гитлер в библии нацизма “Майн Кампф”, они смотрели на Германию через призму своих впечатлений от германской оккупации 1918 года, надеясь повторить опыт Белорусской народной республики (БНР). Как показали дальнейшие события, надежды эти были обречены на провал. В сложившейся ситуации борьба за белорусское национальное возрождение, белорусскую государственность, белорусскую национальную армию объективно смыкалась с фашизмом. Тем самым борьба против фашизма превращалась, как эго ни парадоксально, в борьбу против белорусской национальной идеи, против белорусской государственности и армии, а лучшей раскладки для Москвы, для существующей системы придумать было трудно. То есть, у системы были развязаны руки по части репрессий в отношении сотен тысяч, миллионов людей. Разбив войска Германии, эта система, как она считала, окончательно разбила, похоронила, заклеймила “позором” различных “пособников гитлеровцев” — “украинских, белорусских, литовских, латвийских, эстонских, власовских и прочих “буржуазных националистов”.
Тем самым она как бы подвела юридическое основание как под “старые” политические репрессии беззакония и геноцид, тайно и от крыто проводившиеся на протяжении 20—30-х годов, так и под 98
А. Литвин. К вопросу о политических репрессиях на Беларуси... новые — военные и послевоенные. Мол, смотрите, “отец народов” был прав, предупреждая об империалистической угрозе, об обострении классовой борьбы, о вражеской агентуре. Молодцы “чеки-сты”, сажали за дело... Здесь сработало также правило: “победителя не судят”. А последний, в свою очередь, не замедлил дать свое видение, свою трактовку Победы, тем более, что существовавшая до войны система, вопреки многим ожиданиям и прогнозам, за годы войны ни-чуть не изменилась, а наоборот, получила международное признание, неимоверно укрепился авторитет диктатора. Она не только сполна “рассчиталась” со своими врагами, но и создала необходимые “мифы”.
В годы второй мировой войны целые партии, движения, хозяйственные организации, средства информации и пропаганда ряда стран (Норвегия, Франция, Дания, Чехословакия и т.д.) стали сотрудничать с гитлеровцами. Это явление в 1953 г. получило название коллабо-рация, от французского слова “Collaboration” — сотрудничество.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН