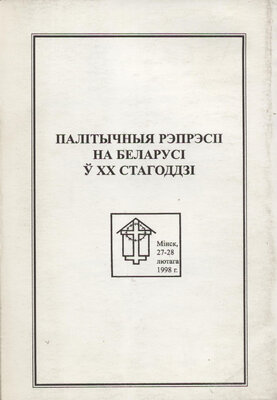Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі
Матэрыялы канферэнцыі
Памер: 278с.
Мінск 1998
У горадзе раз’язджаюць пузачы, а ў нас няма дохлага каня для працы. Савецкая ўлада натравіла суседа на суседа, брата на брата, каб вы ня верылі адзін другому і не згаварваліся проці ўлады.
Сяляне! Кіньце сварыцца. Арганізуйцеся ўсялянскі хаўрус!
Ваш вораг ня сусед, а бальшавікі. Зноў турмы запоўнены сялянамі за падатак і іншае. Зноў сялянін павінен знімаць шапку перад савецкім панам! Далоў паноў-камуністаў!
Сяляне! Не верце брахні камуністаў. Яны вас ашукалі і будуць далей ашукваць.
Сяляне, арганізуйцеся. Брат з братам, сусед з суседам, вёска з вёскай і так далей, пакуль не будзе злучана ўся Беларусь!
Нас сілком падзялілі. Адну частку Беларусі душаць польскія паны, а другую — маскоўскія бальшавікі! Нашаю працай, працай гаротнага беларускага селяніна кормяцца ўсе дармаеды. Вы павінны сказаць: наша праца, наш хлеб — нам! Мы самі галодныя!
Сяляне! Падумайце над нраўдаю! Далоў ашуканцаў і далоў новых паноў-камуністаў. Мы хочам быць самі над сабой гаспадарамі. Далоў голад і холад!
Жыве Беларусь!»
Лістападаўская справа мае працяг і ў нашы дні. 16 лістапада 1994 года Мінскі абласны суд прызнаў, што «рэабілітацыі лістападаўцы не падлягаюць». Прычыны адказу, на думку суддзяў, у тым, што моладзь «аб’ядналася ў контррэвалюцыйную арганізацыю, якая мела сваёй мэтай барацьбу з Савецкай уладай шляхам падрыхтоўкі ўзброенага паўстання, заклік сялян не плаціць падаткі, зваць насельніцтва да масавых паўстанняў... пад заклікамі пабудовы незалежнай вольнай Беларусі».
Лістападаўскі працэс — апошні працэс, які асвятляўся ў друку. Тэма супраціўлення ўладзе, «палітычнага бандытызму» не падымалася аж да 80-х гадоў.
Н. Токарев. Ученые Академии Наук — жертвы... .
Працэс над «балахоўцамі», маладымі людзьмі, былымі курсантамі беларускіх ваенных школ, у канцы 20-х гадоў нраходзіў за зачыненымі дзвярыма. Улады ўжо цішком знішчалі былых удзельнікаў нацыянальнага руху.
Н. ТОКАРЕВ (Минск, Беларусь) УЧЁНЫЕ АКАДЕМИИ НАУК—ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ЗО-МО-х ГОДОВ.
В конце 20-х годов, следуя выдвинутому Сталиным тезису об обострении в стране классовой борьбы по мере продвижения по пути социалистического строительства, контрреволюционной деятельности против советской власти, были предприняты широкомасштабные действия, направленные на жёсткое подавление всякого недовольства происходившей на рубеже 20—30-х годов резкой сменой политического курса. В 1928—1931 гг. по стране прокатилась волна крупных политических процессов. В 1928 г. — «шахтинское дело», в 1930 г. — суд над «промпартией», «трудовой крестьянской партией». Был нанесён удар и по национальной интеллигенции, которую пытались дискредитировать и деморализовать.
В Беларуси весной-летом 1930 г. начало фабриковаться дело «Союза освобождения Белоруссии». Была арестована большая группа сотрудников Наркомзема, Наркомпроса, деятелей науки и культуры. Только в Белорусской Академии наук было арестовано свыше 30 человек.
В печати усилилась компания против «национал-демократов», за которой в отличие от предыдущих лет последовали меры, явно выходящие за пределы законности. Ещё в декабре 1929 г. из состава действительных членов Белорусской академии наук исключён языковед Н. Н. Дурново, в начале 1930 г. историк М. И. Яворский. В окгябрс 1929 г. с поста вице-президента освобождён академик С. М. Некрашевич и с поста непременного секретаря — академик В. У. Ластовский.
Под огонь критики попал и первый президент Белоруской академии наук, белорусский историк В. М. Игнатовский. Ему были предъявлены надуманные обвинения в том. что он «не преодолел пережитков антипролетарского мировоззрения... вёл борьбу против национальной политики партии... служил ширмой для прикрытия националдемократических элементов и превращения Белорусской Академии наук в плацдарм для контрреволюционной деятельности нацдемовской организации...» В январе 1931 г. В. М. Игнатовский и академик АП БССР Д. Ф. Жилунович были исключены из рядов Компартии Белоруссии.
Палітычныя рэішэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі. Не приняв выдвинутых против него обвинений и не веря в возможность доказать в сложившихся условиях их несоответствие действительности, В. М. Игнатовский 4 февраля 1931 г. покончил жизнь самоубийством. В октябре 1990 г. с него были сняты все политические обвинения.
6 декабря 1930 года Совнарком БССР постановил исключить из состава Белорусской Академии наук Г. И. Горецкого, А. Д. Дубаха, В. У. Ластовского, И. Ю. Лёсика, С. М. Некрашевича, В. И. Пичету, лишив их звания академиков. Основание лишения их звания академика формулировалось так: «в связи с выявлением враждебной контрреволюционной деятельности группы академиков Белорусской Академии наук, деятельность которых была направлена против диктатуры пролетариата и на срыв успешного социалистического строительства».
Следует отметить, что к моменту принятия этого решения правительством республики названные учёные находились в предварительном заключении. Приговор же по их делу был вынесен только 10 апреля 1931 г. коллегией ОГПУ БССР. Это означает, что ещё до решения этого внесудебного органа они были обвинены в контрреволюционной деятельности и на этом основании лишены звания академиков. Таким образом, решение правительства республики было не только преждевременным, но и незаконным, так как основывалось на решении внесудебного органа. К тому же сама академия не принимала подобных мер в отношении этих лиц.
Впоследствии все указанные учёные были восстановлены в звании академика АН БССР: В. И. Пичетав 1940 г., Г. И. Горецкий в 1965 г., А. Д. Дубах, Н. Н. Дурново и С. М. Некрашевич в 1978 г. В июне 1988 г. судебная коллегия Верховного суда БССР рассмотрела протест прокурора БССР на постановление Коллегии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. Она установила, что обвинения В. У. Ластовского, И. 10. Лёсика и других в том. что они «являлись членами контрреволюционной организации «Саюз вызвалення Беларусі», осуществляли организованное вредительство на культурном, идеологическом и других участках социалистического сгроительства, проводили антисоветскую националистическую аі итацию, ставя целью отторжение Белоруссии в этнографических границах от Советского Союза и создание так называемой Белорусской народной республики, не имеют под собой никаких оснований. Бьшо установлено, что в материалах дела не имеется объективных доказательств, свидетельствующих о существовании в БССР контрреволюционной организации «Саюз вызвалення Беларусі», 148
Н. Токарев. Ученые Академии Наук — жертвы.... отсутствуют объективные данные о том. что проходившие по этому делу лица занимались контрреволюционной деятельностью, направленной на подрыв советской власти в Белоруссии. Исходя из этого, Судебная коллегия Верховного суда БССР 10 июня 1988 г. определила: «Постановление ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. в отношении В. У. Ластовского, И. Ю. Лёсика и других отменить и дело производством прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления». 17 мая 1990 г. Совет Министров Белорусской ССР отменил постановление Совета Народных Комиссаров БССР от 6 декабря 1930 года в части исключения из числа академиков Белорусской Академии наук В. У. Ластовского и И. Ю. Лёсика.
При решении таких вопросов, как реабилитация незаконно пострадавших в период сталинских репрессий, необходимо руководствоваться не политическими симпатиями или антипатиями, а ставить во главу угла принципы уважения к личности человека, даже если его политические взгляды отличаются от общепринятых в обществе, строго следовать принципам законности и общечеловеческой морали. Только не упрощая и не впадая в крайности, можно дать объективную оценку прошлому и на этой основе извлекать из неё правильные уроки.
Второй удар по кадрам академии был нанесён в 1933 г., когда более десяти сотрудников были арестованы за участие в несуществующей «контрреволюционной, повстанческой и шпионско-диверсионной организации «Белорусский национальный центр».
Особенно большой урон научным кадрам академии был нанесён в 1937—1938 гг., когда без каких-либо оснований по наветам и надуманным обвинениям были арестованы видные белорусские учёные, организаторы науки, деятели культуры, в том числе академики Я.Н. Афанасьев, Ц.Л. Бурстин, П.О. Горин, ТФ. Домбаль, П.ІI. Замотин, Д.Ф. Жилунович, С.Ю. Матулайтис, П.Н. Панкевич, И.А. Петрович, В.А. Сербента, И.З. Сурта, Б.А. Тарашкевич, В.К. Щербаков, членыкорреспонденты С.Х. Агурский, А.И. Александрович, Я.А. Бронштейн, С.П. Мельник, И.Д. Харик, Б.М. Шпенцер.
Современному читателю не надо доказывать, что обвинения учёных в «контрреволюционном саботаже», «участии в антисоветских организациях» и т. д. в абсолютном большинстве случаев не имели под собой никаких оснований и были сфабрикованы органами ОГПУ— НКВД—МГБ, а признания у заключённых вырывались с помощью пыток. Вместе с тем нельзя не отметить, что часто основанием для 149
Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі . репрессий в отношении учёных служили прямые или косвенные доносы на них их же коллег. В обстановке тех лет даже научная рецензия, содержащая обвинения в «отступлении от марксистской методологии», могла стать поводом и причиной ареста учёного.
В этой обстановке всеобщего страха и подозрительности некоторые научные работники, пытаясь спасти себя, начали каяться в несуществующих грехах, искать в своей среде врагов и верноподданически доносить на них, в том числе и в печати. В этом плане показательна судьба известного белорусского историка К. И. Керножицкого. В сентябре 1936 г. в газете «Звязда» и журнале «Бальшавік Беларусі» появились статьи о «целой системе контрреволюционных взглядов К. И. Керножицкого». В кампанию по его дискредитации включились и коллеги Констан гина Ивановича по Институту истории Академии наук. Более того, дирекция института обратилась к руководству академии с требованием уволить К. И. Кернажицкого из института на основании того, что «продукция Керножицкого служит для засорения исторической литературы, принося вред социалистическому строительству». После увольнения из института К. И. Керножицкий не смирился с этим и добился восстановления на работе. Однако дирекция Института истории проявила завидное упорство и в начале 1937 г. учёный секретарь институтам. Ф. Лебович и парторг института Е. С. Матулайтис вновь добиваются увольнения Константина Ивановича. Заметим, что вскоре сам М. Ф. Лебович был арестован органами НКВД, а Е. С. Матулайтис расстрелян в 1938 г.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН