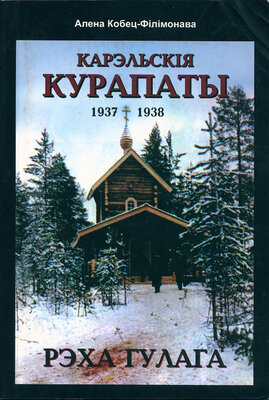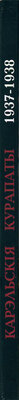Карэльскія Курапаты 1937-1938
расстрэльныя спісы беларусаў і асуджаных у Беларусі. Рэха Гулага
Алена Кобец-Філімонава
Выдавец: Кнігазбор
Памер: 180с.
Мінск 2007
Повал уходил все дальше и дальше от зоны, на делянки уже надо было идти около трех часов на голодный желудок. Но близилась весна, а это значит, что скоро появится подножный корм. В тайге ягод, грибов, орехов — уйма. Вот тогда мы набрасывались на дары леса. Иногда мужчинам
удавалось поставить капканы, мастерили луки и стрелы для охоты на дичь. Так что весной появлялась надежда, что мы не умрем.
Лесоповал возле поселка Лемью закончен. Тут будет Речлаг. И снова готовят этап, теперь уже только из политзэков. Нас около ста женщин. «58-ю статью» вновь грузят в «телятники» и везут в лагпункт «Предшахтная». Опять номера на колени и спины. Теперь уже мой номер А-750. Бараки вновь на замке, хождение по зоне запрещено. Работа — снегоборьба, строительство железной дороги к поселку Юнь-Яга, где будет заложена шахта № 1—2, где будет каменный карьер, в котором я клином и кувалдой добывала каменную твердь для железной дороги. Труд адский. Вставляешь клин в расщелину скалы и бьешь по нему кувалдой. Откалываются маленькие кусочки, а норма — 2 кубометра в день. Разве столько осилишь? Добытый камень надо сложить в штабеля, после чего нормировщик замеряет объем работы, редко кто из женщин мог выполнить даже половину нормы. Начальство увидело, что толку от нас не будет, сняло бригаду и бросило нас на рытье котлована под строительство горного техникума. Глубина котлована 7 метров, а вечная мерзлота еще глубже. Долбили кирками, разводили в котловане костры, отогревали землю, и так сантиметр за сантиметром вгрызались в мерзлоту. Потом котлованы под строительство завода холодильников, детской больницы, гостиницы «Север», гастронома, универмага, Дворца шахтеров — и везде была часть моей работы, моего пота, и крови... и слез.
Меня вновь переводят на строительство железной дороги, теперь уже бригадиром. В моем деле есть запись, что в войну я служила в инженерных войсках по возведению мостов, переправ и других инженерных коммуникаций. И вот я возглавляю бригаду, состоящую в основном из женщин-немок. Посчитали, что я знаю немецкий, т. к. три года жила в оккупированном немцами Минске. Что ж, я человек подневольный, раз сказали строить железную дорогу на Юнь-Ягу, надо строить. На 41-м пикете попалась маленькая речка, летом спокойная, а весной коварная — бурная, несущая камни, эта речка разливалась на километр. Взялись за строительство моста. Нужно было сделать опалубку, чтобы заливать бетон для «быков». Работали, стоя по колено в воде.
Было лето, и это нас спасало, но комары, гнус не давали житья. Не помогали и накомарники (да в них и работать было невозможно!). Возвращались в зону — вместо глаз щелочки и все тело искусано. Но строительство моста продвигалось. И вот мост готов. Пока бетон еще не засох, на одном из быков я написала— «мост строила в 1953 году бригада женщинречлаговцев Анны Богдановой».
Вскоре всех иностранцев стали отправлять на их родину. Я осталась без бригады. В 1953 году умер «наш родной отец и учитель», и мы ощутили некоторое смягчение лагерного режима — стали получать письма, посылки, с нас сняли номера, сняли замки с бараков, сняли с окон решетки. Начальница КВЧ (культуры и воспитательной части) Полянская Клавдия Сергеевна, вольнонаемная, заметила мои организаторские способности и взяла меня к себе культоргом. Мне надо было проводить работу среди женщин — читать газеты, организовывать самодеятельность. В зоне были профессиональные московские актеры, среди них — Елизавета Людвиговна Маевская (актриса МХАТ), солистка харьковского оперного театра Валентина Ищенко, диктор московского радио Татьяна Палагина и другие. Самодеятельность была очень сильной. Ездили по всем лагерным пунктам с концертами, спектаклями, не забывали и «вольняшек».
Согласно зачетам меня освободили из неволи через 9 лет и 4 месяца. За эти годы я прошла все круги гулаговского ада, потеряв здоровье, молодость, надежду и веру в добро, справедливость. «Освободили» меня с ярлыком «изменницы родины» без права выезда за пределы Коми АССР. Это было в декабре 1954 года. Вышла замуж за такого же бедолагу-каторжанина, бывшего летчика. Родила дочь, и все же решимость отыскать справедливость и правду не покидала меня. Билась лбом в закрытые двери, не сдавалась — и победила. В 1962 году меня реабилитировали «в связи с отсутствием состава преступления». Вот такие, значит, чудеса.
Вернулась в свой, теперь уже воистину родной город. Работала, растила дочь, потом внуков. Три года назад похоронила мужа, моего верного друга. Только то и согревает, что в Минске нашлась организация, где собрались такие же несчастные, пострадавшие от сталинских репрессий люди. Это Белорусская ассоциация жертв политических репрессий,
руководимая Е. Кобец-Филимоновой, неутомимым борцом за права политрепрессированных, за восстановление незаконно отнятых льгот. Единственным местом, где мы могли собираться, обсуждать наши наболевшие проблемы, где нас хорошо принимали, предоставляя бесплатный приют, был минский Дом литератора. Теперь же нам отказано и в этой малости, т. к. на это здание «положила глаз» президентская власть. Отказано нам властями и в гуманитарной помощи из США, которую иногда нашей организации выделяло благотворительное общество «София». Выходит — все началось сначала? Нас, политрепрессированных, как будто нс было и нет. И если мы были людьми второго сорта, то теперь нас оценили еще ниже? Неужели у нашего правительства не хватает смелости признать преступления против человечности которые совершались в коммунистическом обществе? Ведь мы — его жертвы. Наверное, кто-то очень сожалеет, что мы все еще живы, что не все еще покинули этот бренный жестокий мир.
Анна БОГДАНОВА
ІВАН ПЯТРОВІЧ СЯЧКО нарадзіўся ў 1921 г. у беднай шматдзетнай сялянскай сям’і ў вёсцы Вялікі Рожын Заходняй Беларусі. Цяжка было жыць бедным беларусам пры польскай буржуазией уладзе. У 1939 г. 18-гадовы юнак у пошуках лепшай долі, наслухаўшыся пра райскае жыццё ўсавецкай Беларусі, клюнуў на бальшавіцкую прапаганду, перайшоў мяжу і апынуўся ў турме. Асудзілі яго за шпіянаж на карысць Польшчы. 10 год адбываўтэрмін у Нарыльлагу. Пасля вызвалення застаўсяжыцьу Нарыльску, у якім, будучы палітзэкам, пабудаваў нікелевы завод, а пасля працаваў на ім металургам.
Праз 33 гады I. Сячко вярнуўся ў родную Беларусь. Жыў у Гомелі. Пасля перабудовы быў рэабілітаваны. Памёр у 1998(?) г.
ЭТО БЫЛО*
В апреле цеху электролиза никеля исполнится 50 лет. Соберутся на юбилей ветераны-металлурги, сегодняшние никельщики — повспоминают, скажут друг другу приятные слова, ведь как бы ни изменялись времена, а человек трудом славен.
Среди юбиляров и нынешний белорусский житель Иван Игнатьевич Сечко. Вряд ли он — дорога неблизкая — сможет приехать на праздник, но своими воспоминаниями Иван Игнатьевич поделился в письме, в него вложил вырезки — из «Заполярки» 1965 года и «Белорусской нивы» за прошлый, 92-й.
«В Норильск я попал в 1939 году, судили меня по «политической» статье за «шпионаж» в пользу Польши. В Норильлаге я сидел и работал вместе с Марией Косаревой, с Сашей Мильчаковым (он попал за анекдот про Сталина). Был в ссылке с артистом Георгием Степановичем Жженовым, Иннокентием Михайловичем Смоктуновским, Давидом Кугультиновым, калмыцким поэтом, Евгением Ивановичем Рябчиковым и
* «Заполярная газета», 1993, 2 красавіка. Артикул друкаваўся пад назвай «И все-таки я счастлив». Аўтар не названы..
многими другими. Три года жил в одном бараке и дружил с композитором Никитой Богословским.
Из всех директоров Норильска самым хорошим был Авраамий Павлович Завенягин. Всегда приходил к нам на стройку, спрашивал, в чем нуждаемся. Всегда здоровался с нами.
В цехе электролиза никеля работал в основном в очистном отделении — на фильтр-прессах, медеочистке, железоочистке. В ЦЭНе я много проработал, подавал рационализаторские предложения, но договора на внедрение со мной не заключали: я был ссыльный, два раза в месяц ходил в НКВД отмечаться, что никуда не убежал».
33 года отработал Иван Игнатьевич Сечко в Норильске, почти половину из этих лет отдал никелевому заводу.
О времени и о себе рассказал Иван Игнатьевич в газете «Белорусская нива», опубликовавшей очерк о бывшем нарильчанине.
«Я бесконечно несчастлив оттого, что узнал в последние годы. Мне стыдно за мое Отечество... И я бесконечно счастлив, что дожил до Нового времени, о котором не чаял в самых радужных мечтаниях». Это сказал Дмитрий Иванович Михайлов, бывший узник Бухенвальда, Карлага и Норильлага, на открытии выставки, посвященной истории Норильска. Под этими словами подписался бы и я...»
Так закончил свой рассказ металлург Сечко...»
МАРТЫРАЛОГ
КАЗНЕНЫ В НОРИЛЬЛАГЕ*
Беларусы, забітыя ў Нарыльску. 3 расстрэльнага спісу Краснаярскага ўпраўлення КДБ, датаванага 1989 г. Усе гэтыялюдзірасстреляны па прысуду Тройкі краявога УНКУС у 1937-1938 гадах.
Борисовец Михаил Павлович, белорус, 1894, Белоруссия. Боровой Михаил Иванович, 1905, Белоруссия.
Вергун Вавил (Василий) Иванович, белорус, 1898, Польша.
Волнистый Иван Петрович, белорус, 1904, Белоруссия. Иванюк Антон Антонович, белорус, 1906, Польша.
Илькевич Павел Александрович, белорус, 1898, Польша. Квятковский Степан Антонович, белорус, 1906, Бело
руссия.
Мазур Савелий Архипович, белорус, 1909, Польша. Македонский Леон Егорович, белорус, 1900, Мозырь. Новик Иосиф Степанович, белорус, 1899, Белоруссия.
Туромша Петр Иосифович, белорус, 1902, Минск.
Чайковский Андрей Петрович, белорус, 1901, место рождения неизвестно.
Сцепуро Павел Петрович, белорус, родился 1 июня 1904 года в Минской области, заключенный Норильлага.
Кирей Адам Васильевич, белорус, родился в 1910 году в с. Крутовцы Барановичского уезда Минской губернии, заключенный Норильлага.
Хаткевич Петр Павлович, белорус, родился в 1915 году в с. Станки Кирильского района, заключенный Норильлага.
* Мартыралог перадрукаваньг з часопіса «Норильский мемориал» (красавік 1990, жнівень 1991).
МУСНИЦКИЕ*
До 1930 года мы жили в д. Паньково Белыничского района Могилевской области. Отец и мать — крестьяне, с низшим образованием. В семье было четверо детей в возрасте от 3 до 11 лет. В 1930 году родителей раскулачили. Как будто можно создать богатство, когда работающих на земле двое, детей -— четверо, в хозяйстве одна лошадь, а налоги...
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН