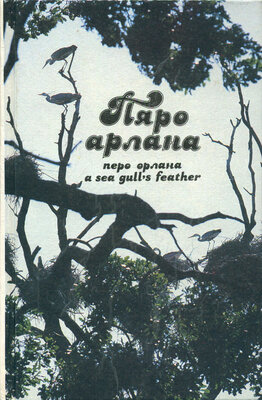Пяро арлана
Выдавец: Беларусь
Памер: 211с.
Мінск 1991
тронной удочкой, быстроходными средствами передвижения. В сознании такого человека все Красные книги кажутся достойными лишь самокрутки, о будущем окружающей его среды он вообще не задумывается. Есть еще и такие горе-охотники, кто просто ради наслаждения выстрелом уничтожают любых животных, оправдываясь мнимой вредностью их. Не избежала этой участи и серая апля, а потому выбирает, чтобы продолжить свой род, самые глухие уголки, которые на планете тоже исчезают.
Если на юге, в дельтах крупных рек и в плавнях, колонии сооружаются в зарослях тростника, то в наших краях они устраиваются на деревьях: дубах, вербах, соснах, даже на елях. Колония в 50—60 гнезд считается крупной, а 100—150 в одном месте свитых гнезд воспринимаются орнитологами как сенсаия.
Каково же было мне в ланьских дебрях, насколько невероятным казалось наличие на весьма ограниченной площади 600 гнезд! Да в одной только кроне я насчитал сразу полсотни! Стал прикидывать общую численность птичьего населения. Если в каждом гнезде две взрослые птиы-родители да четверо, в среднем, птенов, да прибавить сюда несовершеннолетних и престарелых холостяков, то в этом апельном мегаполисе наберется тысяч пять жителей. Сдерживая эмоии, снова и снова осматривал гнезда: не все же бывают жилыми. Да, в плотно заселенных кварталах воздушного города изредка встречались «дома с заколоченными окнами». На общую статистику они влияли незначительно.
Самое, пожалуй, поразительное заключалось не в уникальности колонии, а в том, что до сих пор о ней ничего не было известно в ученом мире. Наша ивилизаия за последние четыре-пять столетий только тем и занималась, что открывала за морями-океанами испокон известные аборигенам явления и факты. А полесскому крестьянину невдомек было кому-то сообщать о бесполезных птиах в то время, когда его одолевают заботы, где накосить сена и заготовить дров на зиму. С практической точки зрения колония интереса не представляет. Охота? Если в окрестностях вдоволь диких уток, водятся лоси, кабаны, косули и всегда можно поймать рыбу, вряд ли уважающий себя охотник польстится на пахнущую ворванью аплю. Правда, пониже Лани припятские люди не брезгуют и такой добычей. Ну что ни край, то обычай...
А все же не случайно колония поселилась именно здесь. Напрямик до Синкевичей рукой подать, всего-то
километров десять-пятнадать, но каких! Довольно точный индикатор глухомани: рядом с аплями поселились черные аисты. Уединенная, малодоступная местность радует разнообразием фауны. Бобры, выдры, ондатры — не часто встретишь их всех сразу. О пернатых можно говорить долго: Припять — райские кущи для пти, а здешние ланьские места наиболее благоприятные.
Но объявленная биологическим заказником несколько лет назад апельная вотчина кажется практически незащищенной. Не от браконьеров. На них в последнее время списываются огрехи и бесхозяйственность лесников- министров и бесправных лесничих, бесконтрольность ведомств, беспомощность природоохранительных органов. Виноват и тот, кто плохо охраняет, и тот, кто скверно определил роль охраны, граниы охраняемого и вину нарушителя закона.
У нас в Белоруссии (по сравнению, скажем, с Прибалтикой или европейскими странами) чрезмерная мягкость закона позволяет браконьеру жить да поживать. Мизерные штаты лесной охраны, отсутствие материальной заинтересованности у лесников и малочисленных егерей, почти ненаказуемая антиэкологическая деятельность промышленных и сельскохозяйственных ведомств на нет сводят даже это мягкотелое законодательство.
Тот же биозаказник, к примеру. Его отдали под защиту Синкевичского лесничества, не увеличив ни штатов, ни средств на охрану. И непроходимость ланьских дебрей, спасающая заказник от непрошенных гостей с суши, одновременно препятствует регулярному наблюдению за порядком, который легко нарушить со стороны Припяти. Я в том убеждался не однажды, живя по нескольку дней на территории заказника: ни единая «сторожевая» душа не поинтересовалась моей личностью, лишь пара неказистых щитов-аншлагов предупреждала об относительном суверенитете нескольких сотен гектаров поймы. Щиты категорически запрещали охотиться, ловить рыбу, рубить лес, косить траву, разбивать палатки, жечь костры. Но в узких протоках носились моторки, где-то в глубине заказника звенели косы, уткнув лодки в лозняк, перебирали сети рыбаки. А потом и мы разбили на запретном берегу палатку и жили в ней сколько нам угодно было, имея, правда, на то самое высокое разрешение, но его никто не пытался спрашивать...
К сожалению, законодательством у нас не регламентированы многие правила поведения человека в природе.
В последнее время наблюдается уменьшение популяии, в апельном мегаполисе прибавляется «заколо
ченных домов» — пустующих гнезд. Что послужило причиной: интенсивная мелиораия Полесья и ухудшение в связи с этим кормовой базы? Усиленный отстрел апель на перелетах и на зимовках в южных краях или влияние чернобыльской катастрофы? Или беспокойство на гнездовье от любопытствующих после нескольких крикливых публикаий в массовой прессе? Ученым еще предстоит это выяснить.
Семейство аплевых у нас представлено пятью родами:
апли — ARDEA. LINNAEUS, 1758
Белые апли — EGRETTA. FORSTER, 1817
Кваквы — NYCTICORAX. FORSTER, 1817
Волчки — IXOBRYCHUS. BILLBERG, 1828
Выпи — BOTAURUS. STEPHENS, 1819
СЕРАЯ АПЛЯ —ARDEA CINNEREA. L.
Местные названия: «каня» (Житковичский район), «валяваха» (Краснопольский район), «чапля» (повсеместно).
Самая крупная из всех наших апель. Общая окраска спины голубовато-серая. Брюхо, передняя часть шеи и зоб сливочно-белые. Лоб и темя белые. Над глазом идет широкая черная полоса, заканчивающаяся на затылке черным хохлом — косичками. От горла по нижней стороне шеи, наподобие галстука, тянутся три полосы крупных продолговатых черных пятен. Зоб украшен удлиненными перьями. Маховые перья и большие, кроющие их, черные. Рулевые у основания буровато-серые, на вершине черные. Клюв желтовато-бурый, ноги зелено- вато-серые. Радужина золотисто-желтая, отсюда впечатление змеиного взгляда.
По сложению — это наиболее типичная апля: узкая голова, большой прямой клюв, длинная шея, длинные ноги, короткий хвост. И широкие крылья. На лету не так стройна. Шею складывает в форме латинской буквы «5», если смотреть слева, и втягивает ее в плечи. Голос совсем не музыкальный, напоминает скрип ржавой петли — «краанк».
Вес до 2250 г, длина крыла до 480 мм, клюва — до 122 мм.
Гнездо конусообразное, выбирается самом, а строят обе птиы из сухих веток и прутьев. В кладке 3—7 яи (обычно 4—5) небесно-голубого вета, их средняя величина 59,8X 43,7 мм. Насиживают обе птиы, но саме гораздо меньше. Насиживание продолжается 26—27 суток.
Питается мелкой рыбой, лягушками, головастиками, насекомыми, грызунами, ящериами, змеями.
апля бодрствует в течение всей ночи. Часто ее можно видеть стоящей на краю косы по отмелям, на мелководных плесах. Но вот она заметила добычу — и следует молниеносный удар клюва. Так же долго и терпеливо выстаивает апля у норок полевок.
РЫЖАЯ АПЛЯ — ARDEA PURPUREA. L.
Местное название: «чырвоная чапля» (Пинский район).
Крупная, чуть меньше гуся, птиа. Вес 1,2 кг. Общий фон окраски темный. Спина серовато-бурая. Голова, шея и грудь рыжие. Крылья темно-серые. Маховые перья черные. Ноги и клюв длинные, желтовато-бурые. В отличие от серой апли очень редко присаживается на деревья. Голос негромкий, можно передать словосочетанием «краанк».
В СССР обитает в Европейской части — от южных областей до 52—53 градуса северной широты и нижнего течения Волги на востоке, на Кавказе, в Средней Азии и Казахстане, в Южном Приморье.
Находки рыжей апли в Белоруссии чаще всего относятся к ее южной части, особенно к Полесью. На территории Припятского государственного ландшафтно-гидрологического заповедника в Снядинском и Переровском лесничествах отдельные экземпляры встречаются в течение всего лета ежегодно с 1970 года, что говорит о возможном гнездовании этого вида.
Обитает рыжая апля по берегам пойменных озер и стари, обязательно заросшим тростником, камышом, ивой. Селится чаще отдельными парами или небольшими колониями. Гнезда располагает на заломах тростника. В кладке 4—5 зеленовато-голубых яи. Птены появляются в коне июня. Становятся на крыло между 25 июля и 5 августа.
Питаются рыжие апли, как и серые, рыбой, лягушками и водными беспозвоночными. В Казахстане отмечено поедание ею саранчи.
По причине малочисленности хозяйственного значения не имеет.
Мерой сохранения в республике может быть выяснение мест обитания и жесткая их охрана.
БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ АПЛЯ — EGRETTA ALBA. L.
Птиа, примерно, величиною с гуся. Вес около 2 кг. Длина тела 0,9—1,2 метра. Оперение чисто белое. Вокруг глаз желтое кольо. Ноги и клюв черные с красноватым оттенком, основание клюва желтое. Полет как и у серой апли. Голос — грубый хриплый скрип.
Большая белая апля — редкий вид, занесена в Красную книгу БССР.
В СССР обитает от Молдавии и Южной Украины до нижнего течения Волги и Урала, а также от Казахстана до Приморья.
В БССР обнаружена на Полесье. Известны залеты в Витебскую область. Гнездование отмечено в 1972—79 гг. в пойме Припяти на территории Петриковского района. Имеются устные сообщения о гнездовании среди колонии серых апель в устье реки Лань.
В условиях Полесья встречается по берегам рек, озер, стари. Гнезда строит на деревьях — дубах и осокорях, диаметр гнезд колеблется от 0,6 до 0,8 метра. Строительный материал — сухие сучья и ветки. Полная кладка — 5 зеленовато-голубых яи. Летные молодые птиы появляются на водоемах в коне первой половины июля. Отлет на зимовку приходится на середину сентября.
Питается насекомыми, рыбой и мелкими грызунами.
Одной из особенностей большой белой апли является ее способность переключаться на питание той группой кормов, которая наиболее доступна в данной местности, к чему неспособны другие виды апель. Эта особенность используется человеком для изучения природных очагов туляремии.
Эта редкостная у нас птиа исключительно осторожна и пуглива, что вызвано постоянным преследованием со стороны человека (в прошлом) — из-за пресловутых перьев-эгреток. Она выбирает для кормежки только открытые участки, чтобы вовремя заметить опасность. Потревоженная, улетает далеко и надолго. В полете крайне внимательна: неожиданно увидев под собой человека, резко взмывает. Очень молчалива, наверно, тоже из осторожности.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН