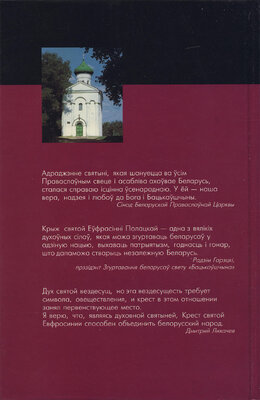Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны
Гісторыя Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай
Уладзімір Арлоў
Выдавец: Асар
Памер: 328с.
Мінск 1998
Весьма важным свидетельством в пользу этого служат найденные в 1962 году археологами на полоцком Верхнем замке остатки мастерской ювелиразолотаря второй половины XII — начала XIII века, времени, которое частично совпадает с жизнью прославленной полоцкой игуменьи. При раскопках были обнаружены куски золотой фольги и фрагмент древней перегородчатой эмали размером 0,8 на 0,8 сантиметра с миниатюрными изображениями крестиков. Найденная эмаль имела три ярких цвета: синий, красный и белый, которые вместе с зеленым (в меньшем количестве) являются основными и на Кресте святой Евфросинии. Это обстоятельство также подтверждает версию, согласно которой в 1962 году была раскопана мастерская не когонибудь, а самого Богши.
Рассматривая декор святыни, Штыхов замечает, что значительное место в нем принадлежит розеткам в форме цветка с восемью лепестками. Этот мотив солярной орнаментики, как свидетельствуют археологические находки (особенно каменные формы для отливки женских украшений) был популярен в древнем Полоцке. Стоит упомянуть и то, что еще в 1977 году специалист в области истории декоративноприкладного искусства В. Ва
259
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
силенко пришел к выводу, что Крест преподобной Евфросинии «отличается от киевских эмалей, представляя полоцкую эмальерную школу».
Еще один аргумент — то, что выполнять свои заказы полоцкая просветительница, как мы знаем на примере строительства зодчим Иоанном храма Спаса, поручала местным талантам.
Стоит добавить, что — это уже отмечалось ранее в главе «Памятник белорусской письменности» — надпись на Кресте отражала некоторые черты живого говора Полоцкой земли.
«Из всего вышесказанного, — подытоживает Г. Штыхов, — следует, что Лазарь Богша является полоцким мастеромзолотарем и эмальером очень высокого уровня, и местом его постоянного проживания был Полоцк».
Дорогой проб и ошибок
Сказать, что перед Миколой Кузьмичем стояла архисложная задача, — значит не сказать почти ничего. Достаточно напомнить, что секрет технологии перегородчатой эмали был утерян на восточнославянских землях еще в эпоху гениального ювелира Богши, восемь веков назад.
Но, прежде чем художник приблизился к своему главному открытию, прежде чем на долгие месяцы, как некогда средневековые алхимики, затворился от мирской суеты в четырех стенах своей мастерской и перешел к работе с материалом, было еще полтора года предварительных поисков, множество консультаций с докторами исторических наук Т. Макаровой и Л. Алексеевым и их минскими коллегами.
Выступая в июле 1994 года на заседании созданного при ОБМ «Бацькаўшчына» научнообщественного совета с отчетом о первом этапе работы, мастер был не слишком многословен: «Скрупулезно изучались памятники декоративного искусства из собраний Оружейной палаты, в частности рязанские бармы XII века. В СанктПетербурге, в Музее исторических ценностей, ознакомился со стеклянными негативами снимков Креста, сделанными в 1896 году фотографом Чистяковым. С них отпечатаны первые идентичные фото реликвии. Татьяной Ивановной Макаровой было специально подготовлено полное описание Креста, что дало мощнейший импульс в восстановлении его иконо
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ
графин. Леонид Васильевич Алексеев воссоздал творческий облик мастера Богши и его эпохи, что позволило преодолеть огромную временную дистанцию, если угодно, подсознанием ощутить дыхание древнего ювелирного горна, познать непреходящую красоту древней эмали, осознать великое мастерство и смиренное терпение, с которыми творили древние ювелиры... Изучены монографические исследования, посвященные византийским, древнерусским и грузинским (VIIXIII вв.) эмалям. Состоялось знакомство с описанием методов и приемов реставрации короны венгерских королей (XII в.)...»
Утерянные либо поврежденные эмалевые изображения с Креста святой Евфросинии воссоздавались по классическим образцам византийского и древнего восточнославянского искусства в строгом соответствии с канонами. Так же кропотливо шла реконструкция колористической гаммы древних иконок. Для достижения максимальной точности использовался метод фотографического анализа. Иными словами, были сделаны сотни многократных фотоувеличений всех поверхностей Креста, деталей фигур святых, орнаментов и надписей.
Помощь доктора исторических наук Т. Макаровой была на этом этапе просто бесценной. Увеличенные фотографии висели над ее столом. «Каждая маленькая пластина, — вспоминает Татьяна Ивановна, — была нарисована и раскрашена; к ней были подобраны аналогии, потому что сохранилось более 300 древнерусских вещей с перегородчатой эмалью, которые я рисовала в разных музеях бывшего Союза».
Обсуждались буквально все детали: какой гиматий* будет у Христа, как должна выглядеть благоелавляющая рука святого?.. Уточнялись нюансы. Например, то, что в древних восточнославянских эмалях художники не изображали на лицах румян и полутеней, или что каждое локальное цветовое пятно имело свою перегородку.
Только тогда мастер сделал в цвете рабочие рисункиреконструкции, которые были одобрены специалистами и после уменьшения до размеров реального Креста дали возможность приступить к непосредственной работе.
Рискуя утомить читателя технологическими тонкостями, все же попытаемся хотя бы схематически представить громадную
‘Гиматий — верхняя одежда в виде плаща.
261
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
сложность проблем, вставших в этот момент перед белорусским мастером.
С трактатом его коллеги из XII века, пресвитера Теофила, мы уже знакомились, когда шла речь о высотах искусства древних ювелиров. Для восстановления утраченной техники перегородчатой эмали необходимо было учесть и все данные о сегодняшнем производстве эмалей, которые весьма разнообразны и по составу и по характеру подготовки основы. Разница в составе эмалевой массы определяется профессиональными способностями мастера и художественной традицией той либо иной школы эмальеров. Все рецепты эмалей, при их бесконечном множестве, являются, между тем, вариантами свинцовокалиевого стекла. Стеклянная масса измельчается в специальных ступках в порошок, который и служит эмальеру сырьем.
В изготовлении перегородчатой эмали во времена Богши на восточнославянских землях использовались как так называемые глухие, так и просвечивающие (опаловые) сплавы. Одежды на изображениях делались из эмалей первого типа, а лица, руки и другие детали — из опаловых.
Древние ювелиры работали с золотом 7080й пробы. После соответствующих манипуляций с матрицей, на которой штамповался основной контур рисунка, изображение переносилось на тонкую золотую пластину. На ней осторожно продавливалось углубление, в результате чего предназначенный для заполнения эмалью рисунок оказывался как бы в лотке глубиной 11,5 миллиметра. Затем мастер заготавливал тончайшие (в десятые и сотые доли миллиметра) золотые полоски и с помощью пинцета и клея выкладывал перегородки, создающие ячейки для эмали.
В отличие от западноевропейских, наши средневековые мастера пользовались только чистыми тонами. Ювелир должен был для каждого цвета создать отдельную, полностью изолированную ячейку из золотых перегородок. Если художник изображал человеческое лицо, то, к примеру, делалась маленькая ячейка для глаза, а в середине ее — еще меньшая для зрачка. При этом само лицо могло иметь в диаметре всего три миллиметра.
Наклеив детали рисунка, мастер засыпал в ячейки припой и ставил золотую пластину на жаровню, чтобы закрепить перегородки. Когда золотая основа была готова, каждая ячейка запол
262
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ
нялась эмалевым порошком определенного цвета. После плавления эмалевой массы поверхность пластины шлифовалась до тех пор, пока золотой фон, эмаль и перегородки не превращались в сплошную гладкую поверхность. И все это повторялось множество раз.
Современному наследнику древних ювелиров приходилось работать буквально вслепую, наощупь, путем сотней проб и ошибок, надеясь не только на приобретенные знания, но и на интуицию, на Божью помощь.
Восстанавливая надпись на Кресте, Микола Кузьмич изготовил более 300 чеканов. Каждый — отдельная буква. Каждый делался под микроскопом. Казалось, существенная часть работы осталась позади. Но после консультаций со специалистами выяснилось, что в XII веке Богша не мог пользоваться подобной технологией, ибо ее просто не существовало. Вновь нужно было начинать сначала.
Однако самое ответственное — 20 миниатюрных эмалевых «портретов» — еще ждало впереди.
Кузьмич овладел техникой «рисования» тончайшими перегородками, но тут возникла новая трудность: как припаять их к золотой основе? Художник знал, что, когда в XIV веке русские мастера пытались восстановить технику перегородчатой эмали при дворе митрополита Алексия, как раз упомянутая операция — соединение перегородок с лотком — встала непреодолимым препятствием.
Над этой тайной больше всего пришлось биться и Миколе. «Бывало, все вроде сделаешь, как следует, поставишь заготовку в муфельную печь, а перегородки взяли и «поплыли» — рисунок сбился, работа идет в брак».
Сколько раз все отправляли в переплавку, сколько раз охватывало отчаяние, — знает только сам Микола да еще его ученик Виталий Яковук, который не раз в минуты сомнений и разочарований не мог сдержать слез.
Художник утверждает, что были случаи, когда найти выход помогали искренние молитвы, после чего, ночью, он просыпался от голоса, подсказывающего элементарное решение, которое лежало, казалось бы, на виду, но бесчисленное множество раз ускользало из рук. Мастер уверен, что именно голос с неба навел его в один из самых сложных периодов поисков на мысль замедлить реакцию эмали специальной присыпкой. Для судьбы
263
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
воссоздаваемого Креста это открытие было едва ли не решающим.
Каждую пластину с эмалевыми миниатюрами переделывали по несколько раз. Самым трудным психологическим эпизодом всей работы Кузьмич считает тот случай, когда он с учениками вынужден был сорвать с деревянной основы всю лицевую сторону Креста, ибо понял, что идет ложным путем. «Если б оставили, — получилась бы всего лишь топорная копия, потому что перегородки у нас выходили толстые — 0,16 миллиметра, а нужно было 0,04. В таком рисунке не было трепетности, изысканности, в нем застывал след не руки, а инструмента».
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН