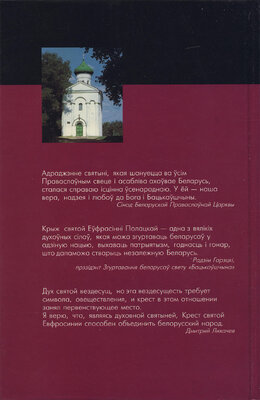Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны
Гісторыя Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай
Уладзімір Арлоў
Выдавец: Асар
Памер: 328с.
Мінск 1998
Доброту, щедрость и хозяйственность вместе с обостренным чувством справедливости Силивончики считают своими генетически заложенными фамильными чертами. К ним стоит, видимо, добавить и жизненную стойкость: рассказывая о сыне, Анастасия Нестеровна обычно вспоминает, как в детстве он, отбывая наказание, целый час без слез и жалоб простоял на коленях на гречке.
254
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ
Отец, Павел Павлович, работал шофером. Видимо, это и повлияло на твердое намерение парня из гомельского Полесья поступать в Бобруйский автотранспортный техникум. Получив диплом об его окончании, пошел в армию.
А вот после армейской службы Анатолий, можно сказать, бросил вызов судьбе и подался в Сибирь.
Тюмень, Тобольск, Сургут...
Тяжкий хлеб шофера на нефтепромыслах. (С тех пор сохранились у Анатолия и любимый девиз: «Мчаться быстрее всех, но при этом никому не мешать ехать в том же направлении» и привычка всегда, бесплатно и на любые расстояния подвозить на машине попутчиков.)
Долгие месяцы жизни среди хантов и манси — истинных детей природы, у которых, как утверждает Анатолий, он многому научился и которых сейчас стремится отблагодарить: то подарит полторы тонны бисера для народных промыслов, то пришлет перед праздником несколько тонн шоколадных конфет...
А еще были мечты о своем собственном деле, которые неизбежно разбивались о тогдашнюю реальность.
В Сургуте он объявился в августе 1978 года с наполеоновскими, как признается, планами и пятью рублями в кармане.
С самых первых дней взялся своими руками строить дом. Тот побелорусски основательный дом с печью, где мать, когда гостила у сына, пекла душистый деревенский хлеб, стоит в Сургуте и сегодня. Печь тоже сложил сам Анатолий.
С того времени с Сургутом связаны уже двадцать лет жизни. Решительный поворот в ней произошел в 1985, когда Анатолий бросил крутить баранку и занялся бизнесом.
На избранной стезе предприимчивый белорус, в котором как бы сфокусировались трудолюбие, смекалка, целеустремленность и здоровые амбиции всего рода Силивончиков, изведал и счастье взлетов и горькие разочарования. Можно не сомневаться, что сюжетов и коллизий тут хватило бы на целую книгу, которая когданибудь, возможно, будет написана. Мы же ограничимся тем, что сообщим читателю необходимый минимум информации. Сегодня А. Силивончик является генеральным директором закрытого акционерного общества «Сибдорсервис» и учится в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Когда находится свободное время, посвящает его охоте, рыбалке, а прежде всего — работе в собственном фер
255
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
мерском хозяйстве, которое занимает 130 гектаров и удивляет гостей своими урожаями. В Сибири подрастают двое его сыновей — названный по деду Павел и старший Геннадий, которому отец дал имя своего рано умершего брата.
К тому, что нам уже известно о деятельности Анатолия Силивончика — мецената стоит добавить еще несколько важных штрихов. 100 миллионов российских рублей в 1996 году он перевел детскому дому в Сургуте. Прекрасный подарок получила и родная деревня Гамза. Для нее (насколько нам известно, это пока что единственный в Беларуси случай) земляк из Сибири приобрел автобус, который четыре дня в неделю, работая по графику, возит сельчан в Паричи, Светлогорск и Бобруйск и круглосуточно действует как «скорая помощь», доставляя больных к докторам. Кроме того по праздникам частный автобус отвозит верующих в храм.
Значительные средства были вложены нашим соотечественником в снятый режиссером Виктором Шевелевичем по сценарию Сергея Тарасова кинофильм «Западня для зубра», в центре которого — личность выдающейся фигуры отечественной истории, властелина Великого княжества Литовского Витовта. Последним по времени фильмом Шевелевича стала документальная лента, повествующая о возрождении Креста святой Евфросинии. Спонсировал фильм, так же как и книгу о нашей национальной реликвии, Анатолий Силивончик.
Благодаря земляку из Сургута, увидела свет одна из новых книг живущего в СанктПетербурге белорусского поэта Анатолия Кирвеля. Силивончик стал спонсором мемориальной доски в честь сотрудников Института белорусской культуры (Инбелкульта), послужившего прообразом Белорусской академии наук.
А. Силивончик участвовал в финансировании Первого и Второго съездов белорусов мира.
Приехав в июле 1997 года на Второй съезд, Анатолий вместе с председателем ОБМ «Бацькаўшчына» Ганной Сурмач посетил в Бресте мастерскую Миколы Кузьмича, которому оставалось уже считанные дни до завершения пятилетнего труда над Крестом.
Тогда же начало приобретать конкретные очертания предложение об основании Международного благотворительного фонда Животворного Креста святой Евфросинии. Авторами идеи были сибирский предприниматель и его коллега и друг, предсе
256
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ
датель правления совместного предприятия «Международный центр предпринимателей белорусской диаспоры» Борис Стук. (Интересно, что Анатолий и Борис родились в один день — 4 мая 1957 года, что, наверное, благоприятно влияет на их совместную деятельность.)
Силивончик признает, что сперва его участие в воссоздании образа Креста Евфросинии имело популистский оттенок. Но вскоре заботы о святыне переросли в глубокое ощущение своей вовлеченности в великое патриотическое начинание, причем это чувство стало общим для всей семьи. Предприниматель утверждает, что его помощь в восстановлении реликвии, его стремление поставить дело так, чтобы финансовое состояние фирмы не влияло на работу над Крестом, получали обратную связь. Крест тоже помогал — приносил моральное удовлетворение, подсказывал выход в сложных ситуациях на работе и дарил совершенно иную атмосферу дома, рождал новые идеи и проекты. Одним из них является намерение выстроить в Сургутском районе первую в Сибири церковь в честь святой Евфросинии Полоцкой.
Доказательства Георгия Штыхова
Идея возрождения Креста полоцкой просветительницы вызвала новый всплеск интереса к личности Евфросинии и истории создания ее реликвии со стороны литераторов, искусствоведов, историков. В научном плане больше всего было сделано тут доктором исторических наук, заведующим отделом археологии и истории Полоцкой земли Института истории Национальной академии наук Георгием Штыховым. Он уточнил ряд спорных позиций и сделал свои выводы достоянием читателей в нескольких публикациях, среди которых выделяется помещенная в журнале «Полацак», выходящем побелорусски в американском городе Кливленде, статья «Из истории изучения Креста преподобной Евфросинии».
Ранее нашу национальную святыню обычно относили к так называемым напрестольным крестам. Такого же мнения, в частности, придерживался и московский историк Л. Алексеев. Однако нам уже известно, что на научной конференции по случаю 830й годовщины создания Креста святой Евфросинии (прежде всего
257
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
благодаря исследованиям Василия Пуцко) был сделан вывод о том, что полоцкая реликвия является крестом воздвизальным, иначе говоря, связанным с праздником Воздвижения. Об этом, кстати, в своей докторской диссертации еще в начале 80х годов писал и сам Г. Штыхов. Теперь он подчеркивает, что, с учетом аналогий, предложение В. Пуцко надо считать окончательно доказанным. А решение Евфросинии подарить Спасской церкви именно воздвизальный крест, имеет, по мнению белорусского историка, свое объяснение.
Дело в том, что с принятием христианства на восточнославянских землях среди князей получил распространение обычай целовать крест для подтверждения взятых на себя обязательств. Когда во время восстания 1068 года в Киеве горожане освободили полоцкого князя Всеслава Чародея из заточения и провозгласили его великим князем киевским, современники посчитали это событие символическим, ибо оно произошло в день Воздвижения Креста Господня. И в Киеве, и в Полоцке прекрасно помнили, как летом 1067 года, после кровавой битвы на Немиге, когда Всеславу Брячиславичу дорогой ценой, но удалось отстоять границы своей державы, киевский князь Изяслав пригласил полоцкого властелина на переговоры под Оршу и вероломно захватил его с сыновьями в плен, нарушив данное накануне крестное целование.
Летописец отметил, что, сидя в киевской земляной тюрьме, Всеслав, вздохнув, промолвил: «О крест святой! Так я верил тебе, ты и избавь меня от этой ямы». В ответ Бог и проявил силу креста.
В связи с судьбой полоцкого князя автор летописи говорит о том, что крест помогает князьям в битвах, спасает от беды любого, кто обращается к нему с искренней верой. Даже сам дьявол не боится ничего, кроме креста. (В Радзивилловской летописи есть миниатюра, на которой Всеслав Чародей изображен на киевском престоле, где князь, по мнению древнего автора, оказался как раз в результате победы креста над диаволом.) Зная о совпадении выхода полоцкого князя на свободу с христианским праздником, внучка Всеслава Евфросиния, как убежден Георгий Штыхов, и посвятила этому необыкновенному событию воздвизальный крест.
Согласно церковным историкам, в IV веке византийский император Константин перед решающей битвой увидел на небе
258
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ
сах крест, обещавший ему победу. Император действительно одолел врагов, глубоко уверовав в чудотворную силу святыни, а его мать, царица Елена, отыскала в Палестине, на Голгофе, крест, на котором встретил смерть Спаситель рода человеческого.
Церковь празднует Воздвижение очень торжественно. Накануне украшенный цветами крест выносят и возлагают на середине храма. Церемония происходит под перезвон колоколов и песнопения. Затем крест на все четыре стороны показывают верующим. Популярность праздника Воздвижения в древнем Полоцке подтверждает сделанная там в 1967 году Г. Штыховым уникальная археологическая находка — каменная иконка с изображением святых Константина и Елены, держащих перед собою большой крест.
В упомянутой выше статье Георгий Штыхов аргументированно опровергает позицию московского исследователя Татьяны Макаровой, которая в своей книге «Перегородчатые эмали древней Руси» высказала мнение, что Богша был не полоцким, а киевским мастером. Белорусский ученый убежден, что Богша мог создать крест только в Полоцке, ибо обязан был трудиться под наблюдением и опекой самой заказчицы — Евфросинии.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН