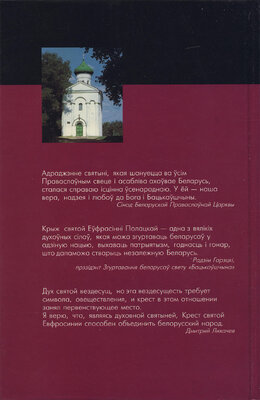Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны
Гісторыя Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай
Уладзімір Арлоў
Выдавец: Асар
Памер: 328с.
Мінск 1998
249
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
полный список необходимых материалов и драгоценных камней.
Примечательно, что участников разговора, а среди них было много известных в стране ученых, политиков, деятелей литературы и искусства, в первую очередь интересовали духовные, нравственные аспекты проекта. «Прежде чем обсуждать технические детали, — говорила член Управы «Бацькаўшчыны» поэтесса Нина Загорская, — нужно осознать, чем будет для нас новое произведение. Если музейным экспонатом — тогда одно дело...»
Эта проблема не могла не волновать и мастера. «Следует ли воспроизводить сакральную святыню, — рассуждал в своем выступлении Микола Кузьмич, — пользуясь чисто реставрационными методами? Либо стоит попробовать осуществить возрождение памятника, выработав для этого научную концепцию, обратившись к произведениям декоративноприкладного искусства эпохи Лазаря Богши, к византийским, древнерусским, грузинским эмалям, к посвященным их исследованию научным трудам? Попробовать возродить технику перегородчатых эмалей, осознать своеобразие художественной манеры, в которой был исполнен Крест? И еще меня глубоко заботила моральная проблема: будет ли это произведение холодным повторением памятника далекой художественной эпохи или же существует возможность создать Крест, который мог бы стать сакральной ценностью для наших современников, приблизить нас к идеалам христианской духовности? Первое было бы возможно при участии только светских кругов. Второе, смею надеяться, становится реальностью при пасторском участии и благословении Церкви».
Известный политик и ученый Юрий Ходыка решительно выступил против использования термина «реконструкция». По его словам, можно было говорить лишь о модели утраченной святыни. В отношении создания нового Креста был предложен широкий диапазон терминов: «романтическая реконструкция», «повторение», «аналог», «копия», «восстановление» etc. Прозвучала даже абсурдная мысль о необходимости хранить новый Крест в банковском сейфе. Владыка Филарет сосредоточил внимание на том, что к восстановлению Креста надо подходить как к высокой идее, эху которой суждено звучать и в будущих поколениях. Тем более, что святыня будет делаться из иерусалим
250
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ
ского кипарисового дерева и иметь все ее прежние христианские реликвии.
Несмотря на острые порой споры, участники дискуссии в конце концов достигли согласия: в итоге задуманной работы должна появиться новая сакральная художественная ценность, призванная служить возвращению духовности, исторической памяти, национального достоинства. Научнообщественный совет принял решение именовать будущее произведение следующим образом: Крест, воссозданный по образу и подобию воздвизального* Креста Евфросинии Полоцкой. Расставляя в деле исторической точности все точки над «і», научнообщественный совет рекомендовал впредь называть древнего полоцкого мастера не Лазарем Богшей, а «мастером Богшей, в крещении Лазарем».
На этом был, по сути, завершен первый этап огромного труда.
Однако пришло время встречи читателя с Мастером, которому было предопределено воссоздать Крест святой Евфросинии и тем самым оставить свое имя в истории Беларуси.
Наследник Лазаря Богши
Он появился на свет в 1950м в полесской деревне Вулька Дрогичинского района, что на Брестчине. Белорусский крестьянский род Кузьмичей давал не только хлебопашцев, но и знаменитых в окрестностях мастеров. В родных местах Миколы некогда хорошо знали его деда Никифора, лучшего на десятки верст кузнеца, умевшего и отменно подковать коня и сотворить в своей кузнице настоящее чудо — изящный подсвечник, железный цветок, изысканный светильник. Микола считает, что унаследовал по генам от деда многое: трудолюбие, жизненную философию, склонность к работе с металлами... (Фонари, висящие в Бресте над входом в Музей спасенных ценностей, выкованы руками Миколы.)
Художественные склонности были и у матери. В молодости, когда обои в деревнях являлись большой редкостью, она не могла отбиться от заказов соседей, что просили украсить стены в хатах оригинальными узорами, которые сельская художница на
* Как было доказано в 1991 году на научной конференции, посвященной 830летию создания полоцкой реликвии, святыня преподобной Евфросинии относилась к типу воздвизальных крестов, связанных с христианским праздником Воздвижения Креста Господня.
251
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
носила на штукатурку с помощью собственного изобретения — розетокформ из сырой картошки.
В 60е годы Миколины родители, Петр Никифорович и Нина Трофимовна, переехали «на целину», в Ростовскую область, где жили, между прочим, рядом с шолоховской станицей Вешенской. Отец будущего художника умер совсем рано, едва преодолев сорокалетний рубеж. Старшим в роду мужчиной остался Микола. Прислушавшись к тому, что подсказывала душа, он перевез семью назад, на родину.
Склонность к искусству у мальчика проявилась рано, еще в младших классах, но возможность учиться долгое время оставалась мечтой. Диплом об окончании Минского художественного училища имени Глебова по специальности декоративноприкладное искусство Микола Кузьмич получил только в 1982м. (Из преподавателей он с наибольшей благодарностью вспоминает Николая Федоровича Прокопенко.) А буквально через считанные годы его имя уже приобрело в художественном мире прочную известность.
Отмеченные бесспорным талантом и самобытным мировосприятием, ассоциативно богатые и исполненные в оригинальных формах и техниках произведения Кузьмича начали регулярно выставляться в Беларуси и за ее пределами. Художник работал с ценными металлами, с титаном, бронзой, мельхиором, но его любовью была эмаль. Позже, уже во время работы над Крестом, мастер скажет: «Металл — это как прекрасная женщина, которая может ответить взаимностью, но достичь этого можно только ценой огромных усилий... Так и с эмалью. Эти тончайшие перегородки, нагреешь их до 800 градусов — а они разлетаются во все стороны...»
Признанием таланта и высокого мастерства Миколы Кузьмича стало экспонирование его произведений в России, Польше, Франции, Германии, Соединенных Штатах Америки... Фоторепродукции его эмалей все чаще появлялись в международных художественных каталогах и сборниках. Московский музей декоративноприкладного искусства приобрел для своей экспозиции созданную брестским ювелиром серию из шести брошей.
М. Кузьмич участвует во многих международных симпозиумах художниковэмальеров. Наиболее плодотворной была поездка в 1990 году в Испанию, где его работы получили высокую оценку коллег и были отмечены специальным дипломом. Ему,
252
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ
единственному из Союза художников Беларуси, пришло приглашение на III всемирный съезд эмальеров.
Значительное и, как показали события, судьбоносное влияние на мировоззрение художника оказала его глубокая увлеченность историей Беларуси и, особенно, минувшим Полоцкой земли, которая была колыбелью нашей государственности и национальной культуры и дала Отечеству целое созвездие имен всемирного значения, где звездой первой величины воссияла святая Евфросиния. Именно внимание к прошлому как фундаменту современного бытия народа и его культуры привело Кузьмича к уникальному проекту создания цикла эмалевых портретов выдающихся деятелей белорусской истории. Первым из них стало выполненное на меди изображение великого князя Всеслава Чародея, иконографической основой для которого послужила одна из миниатюр Радзивилловской летописи. Художника не мог не вдохновлять и образ внучки Чародея ПредславыЕвфросинии. Миколу влекли к себе эпоха просветительницы и, конечно, творчество его средневекового коллеги ювелира Богши.
В то время брестский мастер еще не знал, что ему будет даровано великое счастье восстановить секреты древних эмальеров и продолжить их традицию. Но то, что предложение воссоздать образ нашей национальной реликвии, сотворенной в 1161 году, получил как раз Микола Кузьмич, не выглядит случайным. Тут вспоминается изречение философа о случайности как пересечении нескольких закономерностей.
Однако до того момента, когда доктор исторических наук Татьяна Макарова напишет на своей книге «Перегородчатые эмали древней Руси»: «Николаю Петровичу Кузьмичу, эмальеру и наследнику Лазаря Богши», оставалось еще несколько лет мучительно тяжелого труда.
В Сургуте думают о Беларуси
На прессконференции, созванной по случаю завершения работы над образом Креста, автор этой книги задал нашему сибирскому соотечественнику Анатолию Силивончику вопрос, что заставило его на несколько лет сделать заботу о национальной святыни белорусов одним из важнейших дел своей неспокойной и переменчивой жизни предпринимателя. В ответ из уст
253
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
этого неординарного, щедро одаренного природой человека прозвучала почти фантастическая — особенно для людей далеких от веры — история.
Анатолий вспомнил, как возвращался к себе в Сургут после посещения СпасоЕвфросиниевской обители, где он был удостоен чести приложиться к мощам святой полочанки и подняться в ее келью. Тогда, в самолете, ему явилось видение: взгляду вдруг открылся голубой, расписанный дивными древними фресками церковный купол, отреставрированный фрагмент которого паломник видел в полоцком Спасском храме.
«Я, человек в принципе веривший только в себя да в свои способности и удачу, — рассказывает Силивончик, — почувствовал, что действительно существует некая иная, могущественная и властная сила, которая тянет меня из Сибири в Беларусь, заставляет думать и о судьбе Креста Евфросинии, и о нас, разбросанных по всему миру белорусах... Както раз на посвященном возрождению Креста заседании я спросил у окружающих да и у самого себя, почему груз ответственности за это дело — и финансирование, и обязанности куратора — берет на себя человек, живущий далеко от Беларуси. Митрополит ответил мне без раздумий: «Богу виднее». И этот аргумент владыки оказался чрезвычайно убедительным»...
Вначале жизненный путь Анатолия Силивончика складывался достаточно типично.
Он родился в деревне Гамза, что в нынешнем Светлогорском районе, где и сегодня живет его мать, скромная сельская труженица пенсионерка Анастасия Нестеровна, которой еще очень трудно дать ее 75 лет. Ее отец был лесником и знаменитым в своих местах пчеловодом, державшим в лесу 50 пчелиных «ставов» и поставлявшем воск для церковных свечей. Анатолий вспоминает, что деда не кусали пчелы и что тот за всю жизнь не продал ни единого килограмма меда — весь раздавал сельчанам, особенно щедро одаривая мальчишек.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН