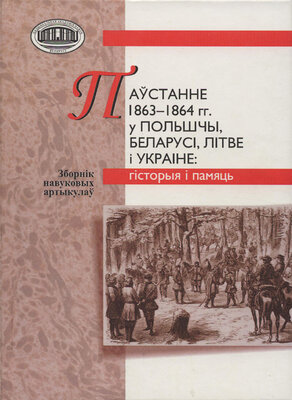Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне
гісторыя і памяць
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 427с.
Мінск 2014
Среди горецких воспитанников была создана особая организация, которая занялась подготовкой к восстанию, устанавливая связи с местными помещиками и повстанческими организациями в Могилеве и Вильно. В январе 1863 г. после начала восстания в Польше у могилевской губернской администрации возникло опасение о возможности присоединения учащихся горецких учебных заведений к восстанию, но решительные превентивные меры так и не были приняты. В результате в ночь с 23 на 24 апреля отряд повстанцев во главе с Л. Звеждовским напал на Горки и земледельческий институт. К отряду присоединилось 59 учащихся (16 % всех воспитанников горецких учебных заведений). Примечательно, что наименьший процент повстанцев был среди учащихся учебной фермы, выходцев из крестьянского сословия, которые всеми возможными способами отклонялись от вербовки. Нападение повстанческого отряда на Горки вызвало человеческие жертвы, пожары, захваты оружия и денег. Его продвижение по Могилевской губернии закончилось на шестой день 29 апреля, когда повстанцы сдались и были отправлены в тюрьму.
События 1863 г. привели к серьезным последствиям для деятельности Горецких сельскохозяйственных учебных заведений. Восстание вызвало панику и анархию в самом институте, а также в Горках и их окрестностях. Очевидец событий, бывший ученик земледельческой школы А. Л. Гейнрих называл их катастрофой, студентов считал игрушкой в руках более опытных и зрелых организаторов восстания, пожертвовавших будущностью молодых людей, чтобы «посредством каких-нибудь органов гласности Парижа или Кракова ввести, на короткое время, Европу в заблуждение объявлением, что такого-то числа освободителями отечества занят гор. Горки, на самой северной окраине
русского захвата, что по всей Белоруссии разлился огонь восстания» [2, с. 621]. Участник восстания студент Г. Коссак рассказывал, что повстанцы во время пребывания на каторге пытались осмыслить произошедшее и осуждали организаторов восстания как людей, забывших не только расположить к себе местное население, но даже познакомиться с его настроением [7, с. 216].
По подсчетам С. Г. Цитовича земледельческий институт понес значительные материальные потери (18 886 руб.), лишился подвергшихся судебным следствиям преподавателей, а найти им замену было довольно затруднительно. В этой ситуации учебные власти стали искать выход из сложившейся ситуации. Важно иметь в виду, что идея перевода института из Горок не отличалась новизной. В среде высшей российской бюрократии на протяжении всего периода существования института сталкивались различные позиции относительно целесообразности нахождения высшего учебного заведения в Горках и оправданности финансовых затрат на его содержание. В конце 50-х гг. XIX в. по указанию министра государственных имуществ М. Н. Муравьева институт подвергался инспекторским проверкам, которые выявили отдельные недостатки в его деятельности и даже предлагали ликвидировать институт, не упоминая при этом политические мотивы. Тогда Муравьев не решился на закрытие института, а провел только реорганизацию его деятельности в плане усиления практической составляющей подготовки агрономов [7, с. 177-178]. Следующий министр государственных имуществ А. А. Зеленой считал главным типом сельскохозяйственных учебных заведений средние земледельческие училища, призванные готовить квалифицированных управителей сельскохозяйственных предприятий. События 1863 г. несомненно послужили дополнительным мотивом для принятия властями решения о переводе земледельческого института в Петербург. В соответствующем докладе министра государственных имуществ от 24 июля 1864 г. наряду с политическими были изложены и другие причины ликвидации земледельческого института в Горках (удаленность от больших городов и путей сообщения, трудности в привлечении преподавателей, бедность окрестных хозяйств
и населения, комплектование состава студентов преимущественно выходцами из Могилевской губернии и др.), которые, на наш взгляд, не следует сбрасывать со счетов [6, с. 131-136].
После перевода земледельческого института в Петербург горецкие учебные заведения утратили благосклонность центральных властей и, как следствие, снизилось их финансирование. Произошла почти полная смена педагогического персонала, а количество учащихся в 70-е гг. XIX в. уменьшилось до 100-120 человек. Правительственные чиновники предлагали даже закрыть средние и низшие сельскохозяйственные учебные заведения в Горках, но этот план реализован не был.
Поскольку к восстанию примкнули ученики землемернотаксаторских классов при гимназиях в Минске и Вильно, Муравьев в сентябре 1864 г. закрыл эти классы, мотивировав свое распоряжение тем, что получающие в них подготовку «местные уроженцы польского происхождения по своему вредному направлению не могут принести пользы для здешнего края» [4, с. 19].
Деятельность властей в период восстания не ограничивалась лишь закрытием мятежных профессиональных учебных заведений. Накануне и в период восстания представителями российской администрации выдвигались разные проекты преобразования существующей системы образования, которые касались и ее профессиональной составляющей. Стремление российских властей к изменению характера народного образования в регионе и созданию своей опоры в лице учителей начальной школы в условиях острейшего противостояния с польским влиянием было вполне естественным. В связи с этим был выдвинут проект открытия среднего учебного заведения учительского института в Жировицах в «православно-русском духе» [3, с. 50]. Чтобы объединить потенциал прибывших из Великороссии русских сил с местными, создать таким путем культурную опору для России М. Н. Муравьев выступил с идеей создания университета в Вильно. По его замыслу университет должен был послужить школой для перевоспитания польской молодежи, однако вскоре Муравьев отказался от своего намерения [4, с. 37].
Наиболее жизнеспособной оказалась лишь одна из инициатив властей, выдвинутая еще до начала восстания, проект учительской семинарии. Идея создания специальных семинарий для подготовки учительских кадров в Северо-Западном крае была не новой: имелся опыт работы учительской семинарии в Витебске в 1834-1839 гг., после закрытия которой округ лишился своего «рассадника первоначальных учителей». В начале 60-х гг. в условиях обострения общественно-политической ситуации попечитель Виленского учебного округа князь А. П. Ширинский-Шихматов вновь поставил на повестку дня вопрос об учительской семинарии [3, с. 50].
20 апреля 1863 г. в разгар восстания А. П. Ширинский-Шихматов предложил министру народного просвещения создать две учительские семинарии: одну в Беларуси и другую в Литве. Семинарию в Беларуси планировалось открыть в местечке Молодечно, в здании закрытой за участие в восстании прогимназии. Учебное заведение должно было комплектоваться только из лиц православного вероисповедания, чтобы стать оплотом правительства, воспитывать приверженность к русской культуре и государственности. Министр народного просвещения А. В. Головнин в представлении Государственному совету выбор места для проектируемого учебного заведения обосновывал следующим образом: Молодечно как небольшое местечко «не заключает в себе условий больших городов, неблагоприятно действующих на тот скромный быт, к которому предназначают себя воспитанники семинарии, и вместе с тем доставляет воспитателям большую возможность надзора за образом жизни воспитанников» [5, с. 1184].
25 июня 1864 г. было утверждено Положение о Молодечненской учительской семинарии, и 8 ноября 1864 г. состоялось ее торжественное открытие [9, с. 16]. По мнению администрации Виленского учебного округа, семинария в первые годы существования оправдывала возложенные на нее надежды. В письме министру народного просвещения от 8 июня 1866 г. попечитель округа И. П. Корнилов говорил о своей удовлетворенности «чисто православно русским направлением будущих народных наставников», на которых он смотрел как на «коренных миссионеров русских начал» [3, с. 205].
Таким образом, приведенные факты позволяют сделать выводы о влиянии восстания на деятельность профессиональных учебных заведений Беларуси. В первую очередь восстание вызвало материальные потери, анархию и дезорганизацию учебного процесса, сломало судьбы людей, подорвало нормальный морально-психологический климат, внесло раздор в среду преподавателей и учащихся профессиональных учебных заведений. Восстание подтолкнуло власти закрыть учебные заведения, в которых преобладали оппозиционные настроения (Горецкий земледельческий институт, землемерно-таксаторские классы при Минской гимназии), и создать профессиональные школы, призванные готовить их опору на местах (Молодечненская учительская семинария). Однако и в том, и в другом случае влияние восстания было существенным, но не единственным фактором принятия решений.
Перечисленные выше последствия являлись непосредственным результатом восстания, однако можно отметить и его опосредованное влияние на процесс становления системы профессионального образования Беларуси. Наряду с отменой крепостного права, выдвижением на первый план крестьянского вопроса восстание 1863-1864 гг. было одним из важных событий эпохи 60-х гг. XIX в. Попытки правительства и повстанцев привлечь на свою сторону крестьян, в том числе путем повышения их образовательного уровня и воспитания в нужном духе, повлияли на формирование структуры профессионального образования и социального облика учащихся профессиональных учебных заведений в последующий период.
Несмотря на отрицательные последствия закрытия земледельческого института, на территории Беларуси сохранилось сельскохозяйственное образование, как одна из важнейших отраслей профессионального образования, а Горки по-прежнему играли роль его крупного центра, включавшего учебные заведения среднего и низшего звена. На протяжении второй половины XIX начала XX вв. на территории белорусских губерний открывались низшие сельскохозяйственные учебные заведения, которые ориентировались прежде всего на опыт деятельности
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН