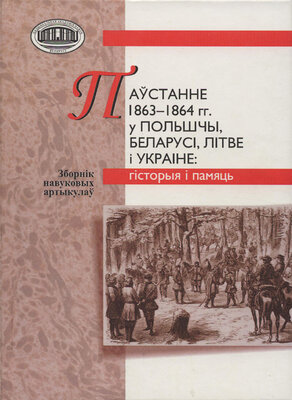Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне
гісторыя і памяць
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 427с.
Мінск 2014
19 ноября 1864 г. Верхотурский уездный исправник докладывал рапортом Пермскому военному губернатору, что все чиновники не имеют дружеских сближений с поляками. Последние живут по съемным квартирам в домах, а некоторые квартируют в доме отставного майора Радкевича. На Рождество поляки собирались устроить коллективное богослужение в доме у Радкевича, но были остановлены во время сборов и разошлись по своим квартирам [2, л. 48].
В то же время, стремились учитывать — едет ли высылаемый с семьей или нет (т. е. сопровождение членов семьи не запрещалось). На 254 сосланных в Пермскую губернию приходилось порядка 176 членов их семей, живших вместе с ними. Кроме того, указывалось, есть ли у высылаемого и его семьи средства к существованию, или же они выделяются казной. В последнем случае, деньги выделялись по распоряжению губернатора уездным казначейством из средств того города, который предназначался для высылки. Естественно, что лишних денег у местных бюджетов не было, и они отнюдь не горели желанием содержать тех, кого суд определил как государственных преступников, за свой счет, а потому очень неохотно шли на предоставление денежных сумм по просьбе самих ссыльных.
Уделялось внимание сохранению имущества арестованных: император прямо требовал «принимать в тоже время меры к охранению наличного при нем (арестованном) имущества» [2, л. 3]. Если же сосланный не мог назначить управляющего своим недвижимым имуществом, то этим занималась власть. И это при том, что повстанцы выступали за свержение этой самой власти.
Содержание ссыльных от казны всецело зависело от местных властей и взаимоотношений с ней, и составляло от 6 до 15 копеек кормовых в сутки, т. е. от 1 руб. 80 коп. до 4 руб. 50 коп. в месяц. А некоторые еще получали по 1 руб. 20 коп. за аренду жилья. Ксендз П. Сцегенный получал от государства 9 руб. 52 коп. в месяц. В то время как надзирающий за ним полицейский получал за свою службу только 9 руб. в месяц [12, с. 40]. Правда, начальникам полиций и полицейским, непосредственно осуществляющим надзор за высланными, кроме установленного жалованья, отпускалось по 150 руб. серебром в год, в безотчетное распоряжение [2, л. 3, 4].
Если к ссыльным прибывали родственники (жены, дети), у которых истекали сроки паспортов, выданные в западных губерниях, МВД по соглашению с главным начальником СевероЗападного края и Наместником Царства Польского предписывалось «делать на означенных паспортах надписи о продлении срока оных». Семейства ссыльных были лишены права на отлучки с мест ссылки их родных, но излишней опеки и строгости не было [2, л. 53].
В мае 1863 г. из Ялуторовска Тобольской губернии совершили побег польский уроженец Крупский, Балакшин, Шульц и уроженец г. Осы Пермской губернии Ф. Некрасов. Беглецы направились через Шадринск, где от них отстал Шульц [4, л. 3, 9]. В связи с этими событиями и продолжающимся польским восстанием губернатор А. Г. Лошкарев запретил 6 июня 1863 г. ввоз любого оружия на территорию Пермской губернии и распорядился об аресте лиц, занимающихся его доставкой при любых подобных попытках [4, л. 21].
Вскоре Крупский, Балакшин и Некрасов были задержаны на осинской пристани. 18 июня арестованные были препровождены жандармским унтер-офицером Шадриным и рядовыми Ситниковым и Пушкаревым в Казань и переданы военному губернатору. Доставка обошлась казне в 18 руб. 55 коп. серебром [4, л. 35, 39, 46].
Начались обыски у всех, кто мог оказать приют и помощь беглецам, и, в первую очередь, у поляков. После обыска у ксендза П. Сцегенного военный губернатор А. Г. Лошкарев признал, что нашли только деньги для ссыльных в Сибирь поляков. Вместе с тем губернатор указал на П. Сцегенного, как на центральную польскую фигуру в регионе и связь его с ссыльными, а потому предложил удалить его подальше от городов Сибирского тракта, что и было сделано. В октябре 1863 г. ксендз оказался в Соликамске, туда же было переведено его содержание через казначейство [4, л. 55, 173].
Но, хотя губернское руководство не обнаружило связи П. Сцегенного ни с политической деятельностью, ни с побегом Крупского, их предположения имели основания. Сохранились архивные данные об их связи и переписке. Так, еще 13 января 1863 г. Крупский писал ксендзу, что «он возможно останется». А последний 1 марта 1863 г. писал, что он «постоянно был против того, чтобы в зимнее время возвращаться на родину, дороги заметены, очень опасно и люди суровы» [4, л. 107]. Учитывая то, что вскоре С. Крупский с товарищами совершил побег и двинулся в сторону Перми, можно предположить об осведомленности (как минимум) П. Сцегенного о готовящемся бегстве и что беглецы рассчитывали на какую-то помощь на берегах Камы, тем более, что проводником оказался местный житель Ф. Некрасов.
Обыски были проведены не только в доме П. Сцегенного, но и других лиц, тесно контактировавших с ним. Так, допросу был подвергнут инженер-подполковник Л. С. Буткевич [4, л. 75]. Буткевич заявил, что их приятельские отношения ограничивались чаепитием и взаимным посещением друг друга во время болезней. Только впоследствии, в своих воспоминаниях Л. С. Буткевич признал, что он передавал деньги Сцегенному на поддержку
польских ссыльных. Следствию же это было ясно с самого начала, так как в его руках были письма, в том числе солдат-поляков, сообщавших, что они высылали деньги на общее польское дело на имя Л. Буткевича в Перми [4, л. 105]. Так что, хотя и не было прямых улик против поляков, но подозрения в их пособничестве или свершившемся, или возможном, были явно небезосновательны.
Кроме ссыльных в Пермской губернии были, так называемые военнопленные, т. е. непосредственные участники повстанческих отрядов, захваченные в боях. Их отправляли в арестантские роты гражданских ведомств. Таких было выслано в Пермскую губернию около 330 человек [12, с. 34].
Охрана, этапирование и наблюдение за ними поручалась войскам Отдельного корпуса внутренней стражи (ОКВС). В Перми дислоцировался батальон внутренней стражи, конно-этапная команда и уездная инвалидная команда, входившие в 4-й (Казанский) округ. В 1860-1863 гг. в Пермском батальоне внутренней стражи насчитывалось около 930 человек. Командовал батальоном бывший штабс-капитан гвардии, майор барон фон Тальберг Отто Германович, впоследствии переведенный в Санкт-Петербург и дослужившийся до генерал-лейтенанта.
Батальон был укомплектован рекрутами из западных губерний и Царства Польского. Судя по фамилиям и именам рекрутов Пермского батальона, среди них было значительное число евреев, поляков, возможно, белорусов. Документы того времени не выделяют национальность солдат и офицеров, но отмечают их конфессиональную принадлежность, так как воздействие на солдат через религиозное сознание считалось важным фактором в Русской армии. Ежегодно издавались приказы с перечислением христианских, иудейских, мусульманских праздников, во время которых для отправления соответствующих обрядов людей освобождали от обязанностей службы.
В 1840-е гг. в Пермском гарнизонном батальоне был свой капеллан, кандидат богословия, ксендз Зелинский. Служили в батальоне солдаты-католики. Католиком был и военно-судебный чин аудитор [8, л. 2, 4].
Согласно букве закона, Устав 1827 г. позволял нижним чинам из евреев посещать синагоги, расположенные в местах дислокации войск, а также пользоваться услугами раввинов. Там, где не было ни синагог, ни раввинов, устав позволял еврейским солдатам устраивать молельный кворум (миньян), особенно по праздникам, в местах, специально дозволенных для совместной молитвы старшим офицером. Если число солдат из числа евреев в данной части, соединении превышало триста человек, к тому же они отличались примерным поведением, Устав предполагал назначать к ним с разрешения командования войсками раввина с оплатой от казны [9, с. 734]. Но в Пермском гарнизоне должности раввина не было, что, скорее всего, определялось отношением самого командира.
Солдаты, призванные из западных губерний, не только охраняли и сопровождали своих проштрафившихся земляков, но и шили для них арестантскую одежду. Так, в 1861 г. на пошиве арестантской одежды было задействовано 154 человека батальона. За труды платили от 1 руб. 40 коп. до 3 руб. 80 коп. каждому в зависимости от вклада и мастерства (то ли парщик, то ли портной). Это было меньше, чем получали ссыльные на пропитание [6, л. 2,7]. Всего за первое полугодие 1861 г. было пошито для взрослых арестантов-мужчин 2500 рубах, 3000 портов, 1700 кафтанов, 400 шаровар, 500 шапок летних, для арестантовженщин 900 рубах, 500 юбок летних, 800 платков. Кроме того, шилась одежда и для малолетних арестантов [6, л. 10, 11]. Те же солдаты под командованием уже подполковника Тальберта шили арестантскую одежду и в 1862 г., и в 1863 г. [7, л. 45].
Давно намеченная реформа внутренних войск была отложена именно из-за польского восстания, и только 6 августа 1864 г. император подписал указ об упразднении ОКВС с 1 января 1865 г. По этому указу был преобразован и Пермский батальон.
После подавления восстания император довольно-таки быстро стал смягчать репрессии. Так, уже в 1867 г. по Высочайшему повелению было разрешено лицам, находящимся под надзором полиции в административной высылке, вернуться к себе на родину. Однако такое благоволение не распространялось на лиц
духовного звания [10, с. 792-793]. К 1870-м гг. основная часть ссыльных за участие в восстании покинула пределы Пермской губернии. Остальные были освобождены только в 1894 г.
14 ноября 1894 г. манифестом императора разрешалось «всем лицам, отбывающим еще наказание за участие в польском мятеже 1863 г., державное освобождение от полицейского надзора с предоставлением права повсеместного жительства» [11, с. 642]. В документе, отложившемся в архиве Пермского края, это повеление императора имеет добавление, отсутствующее в официальном документе: «Приостановиться, впредь до особого распоряжения, разрешением им жительства в Царстве Польском, Северои Юго-Западных краях, а лицам, принадлежавшим к римско-католическому духовенству, еще и в Курляндской губернии» [5, л. 2]. Однако уездные начальники (Камышловский, Красноуфимский, Верхотурский, Чердынский) докладывали Пермскому губернатору, что к тому времени лиц, отбывающих наказание за польское восстание уже не было [5, л. 4, 6].
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН