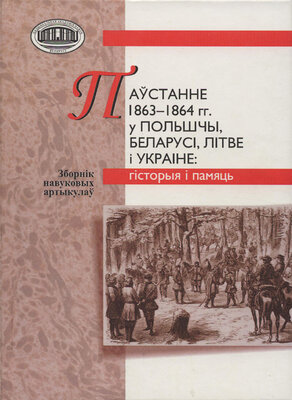Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне
гісторыя і памяць
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 427с.
Мінск 2014
Большее внимание обращалось на нереализованную программу «левицы» и на постановку крестьянского вопроса в программах этого движения. Ориентационной основой, которая определила характер историографических оценок тех лет, являлась оценка «польских» восстаний XIX в., данная К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. Лениным (правда, в несколько сокращенном варианте), и быстро меняющийся в те годы политический контекст советско-польских отношений [3].
В белорусской историографии до сегодняшнего дня не издано ни одного сборника документов по этой тематике. В научно-популярных публикациях начала 90-х гг. XX в. обозначились две тенденции: 1) попытка «обелорусить» ноябрьское восстание, представить его «общенародным» делом белорусов, тесно свя
занным с событиями в Польше и направленным против «колониальной» политики России [4]; и 2) показ восстания с позитивистско-фактографической точки зрения, максимально игнорируя моменты, связанные с его толкованием [5].
Единственная в Беларуси кандидатская диссертация по теме восстания 1830-1831 гг. была защищена в 1995 г. (О. В. Горбачева). Исследовательница пробует балансировать на основе вышеуказанных двух тенденций, не добавляя ничего нового (в концептуальном плане) к уже имеющимся историческим наработкам [6].
Такая ситуация в разработке важной научной проблемы, каковой является история восстания 1830-1831 гг., в белорусской историографии объясняется несколькими причинами, связанными как с низким уровнем его концептуального осмысления, так и существенными упущениями в подходах к исследованию этой проблемы: 1) проблема не осмыслена как органическое звено целой полосы восстаний конца XVIII XIX в., которые происходили на территории бывшей Речи Посполитой; 2) очень слабо проанализирован и обработан богатый историографический «след» традиций изучения проблемы, который формируется в польской, российской, украинской и литовской исторической науке второй половины XIX XX в.; 3) не подвергалась «инвентаризации» и не включена в источниковое поле реконструкции проблемы богатая археографическая традиция. Такое состояние проблемы может породить «новое» только с точки зрения появления публикаций или привести к тому, что события восстаний 1830-1831 гг. и 1863— 1864 гг. станут вспомогательным материалом для политико-идеологических спекуляций современной публицистики.
В тематике восстания 1863-1864 гг. белорусской историографии повезло значительно больше. Можно сказать, что на развитие белорусской историографии первого пореформенного двадцатилетия (1861-1881 гг.) наибольшее влияние оказал тот резонанс, который был вызван в общественно-политической жизни России кровавыми событиями восстания 1863-1864 гг. и средствами его подавления. Они сконцентрировали внимание правительственной России и российского общества на западных губерниях империи. Эти события заставили многих публици
стов, общественных и политических деятелей, ученых России открыть для себя Беларусь и «белорусский вопрос» не только как реалию политической жизни империи, но и как явление, имеющее свои исторические корни.
Это открытие в Беларуси прежде всего было сделано представителями правительства и руководством Святейшего Синода. Их влияние на белорусскую историографию в 60-70-х гг. XIX в. было решающим и сохранялось вплоть до начала XX в. После подавления восстания 1863-1864 гг. в целях контрпропагандистской игры против европейской прессы, по-своему (в антироссийском духе. Д. К.) толковавшей эти события, царское правительство задалось целью доказать, что западные районы империи были районами русскими, которые были испорчены в XVII-XVIII вв. «узурпаторами-поляками». Для возрождения «русской народности и православной веры» в крае правительство мобилизовало целую систему административнополицейских и идеологических средств.
Белорусская «тематика» создала в 60-70-е гг. XIX в. литературную традицию этой проблемы в газетах, журналах и книгах империи. В это же время образованное общество России получило информацию об этнографическом составе населения западных губерний и получило первое системное (по заказу правительства) понятие о его истории. Оно было внедрено в общественное сознание через представителей официального и клерикально-православного направлений историографии Беларуси, которые проводили великодержавно-монархические идеи: о «естественности, справедливости и правомочности государственного объединения» белорусских и литовских губерний с империей; о «воссоединении» без насилия униатов с православной церковью на Полоцком соборе 1839 г.; о восстании 18631864 гг. как «бунте польской шляхты, которая опасалась того, что Российское правительство после освобождения крестьян перетянет их на свою сторону». Эти исторические взгляды были провозглашены и внедрены в общественное сознание России под лозунгом «За упрочение в крае российских исторических начал» (М. О. Коялович и школа «западнорусов») [7].
Идеи западнорусизма распространялись и в конце XIX в., когда в Вильно в 1898 г. был открыт Муравьевский музей, большинство сотрудников которого были уроженцами Беларуси. В своих публикациях они трактовали события восстания 1863— 1864 гг. как проявление «бунта польских панов», вносящего «несогласие в российскую семью». Политика М. Н. МуравьеваВиленского толковалась как «светлый этап» истории, заслуживший название «муравьевской эпохи».
Демократическое направление белорусской историографии смогло концептуально реализовать свое отношение к восстанию 1863-1864 гг. только в 20-х гг. XX в., в период проведения политики «белорусизации» в БССР (М. Довнар-Запольский, А. Шлюбский, А. Цвикевич, Ф. Турук, И. Витковскиий, В. Игнатовский и др.) [8]. В это время, которое можно определить как переходное от ограниченного концептуального плюрализма до установления в исторической науке БССР марксистско-сталинской идеологии, проявились две тенденции освещения восстания 1863-1864 гг. Первая из них, представленная бывшими белорусскими эсерами, которые «перешли к коммунистам» (В. Игнатовский), характеризовала восстание с позиций вульгарно-социологических схем «классовой борьбы» и «подготовки предпосылок» Октябрьской революции в России. Активно, хотя и выборочно, были использованы оценки восстания 1863-1864 гг., данные Марксом, Энгельсом и Лениным. Политический элемент в этих работах доминировал над целями научного исследования. Очень слабо и фрагментарно использовались источники. Для большей части работ этого периода характерна ощутимая политическая ангажированность предвзятых схем. В 20-х гг. XX в. была опубликована первая биография Калиновского, в которой определялись его место и роль как руководителя восстания в Беларуси и Литве, опубликованы издания 3, 5 и 7-го номеров «Мужыцкай праўды», поставлены вопросы об участии крестьян Беларуси в восстании. В основе своей это были статьи, подготовленные на основе источников, опубликованных еще в конце XIX в., архивные материалы были использованы в незначительной степени [9].
Наиболее известный представитель этой тенденции, официальный глава исторической науки БССР, первый президент Белорусской академии наук В. Игнатовский в 1928 г. охарактеризовал восстание 1863-1864 гг. в такой концептуальной формуле: в период реализации крестьянской реформы произошло второе польское восстание 1863 г. Оно значительно затронуло и Беларусь, сделавшись тут, с одной стороны, крестьянским движением, направленным против панов, а с другой политическим национально-освободительным движением, направленным против царизма. После создания в Варшаве повстанческого правительства в то же время и в Вильно было организовано литовско-белорусское руководство восстания. Руководство это очень выразительно делилось на две части «белых» и «красных». «Белые» были представлены крупными белорусскими помещиками, которые выступали за создание великой Польши с сохранением общественного строя в Беларуси. «Красных» представляла мелкая шляхта, частично уже безземельная, а также интеллигенция простонародного происхождения, настроенная в радикально-народническом духе. Она ставила перед собой в качестве радикальной цели разрешение крестьянского вопроса и создание независимой от России и Польши Белорусской республики.
Сотрудничество в начале восстания этих двух группировок замедляет движение в Беларуси. Крестьяне, видя участие в восстании панов, не идут за повстанцами. Положение меняется, когда «красные» отделяются от «белых» и берут власть в свои руки. Во главе восстания в Беларуси становится революционер-народник, «красный диктатор» К. Калиновский. Движение приобретает антишляхетский характер. Крестьяне начинают прислушиваться к воззваниям «красных» и принимают участие в восстании. Напротив, «белая» часть повстанцев открыто переходит на сторону Муравьева-вешателя. «Красные» сражаются на два фронта: против «белых» предателей и против Российского правительства. Такая борьба превышает их силы, и восстание постепенно начинает затухать [10].
Политические репрессии против деятелей «Второго белорусского Возрождения» в конце 20-х гг. XX в. породили к жизни вторую тенденцию в белорусской историографии восстания 18631864 гг. Ее можно охарактеризовать как реанимацию позиций «западнорусизма» в условиях коммунистического, советского режима. Представляющий ее глава Института истории партии при ЦК КП(б)Б С. Агурский, который стал позднее одним из инициаторов кампании борьбы с «национал-демократизмом» (к числу последних был причислен В. Игнатовский. -Д. К}, издал в 1928 г. книжку «Очерк истории революционного движения на Беларуси (1863-1917)». В этой книжке, полемизируя с «буржуазными националистами», он представляет восстание не как «общенародное», а как «организованное шляхтой и духовенством». Восстание проходило под «шовинистическим лозунгом», и «широкие массы крестьянской и городской бедноты» в нем не участвовали [11].
В таком контексте Калиновский выглядел как явный предтеча белорусских «националистов». Только в 1939 г., когда критики белорусских «нацдемов» сами были уничтожены молохом сталинских репрессий 1937-1939 гг., стала возможной частичная «реабилитация» восстания 1863 г. и К. Калиновского. Белорусский историк И. Лочмель снова обратил внимание исследователей на связь реформы 1861 г. и событий 1863-1864 гг., а Калиновского оценил как сторонника прогрессивных революционнодемократических идей Герцена и Чернышевского [12]. Оценку эту в те времена не разделяла большая часть исследователей. Характерно, что В. Пичета, который опубликовал в 1940 г. специальную работу об антифеодальных движениях в Беларуси и на Украине, даже не вспомнил о восстании 1863 г.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН