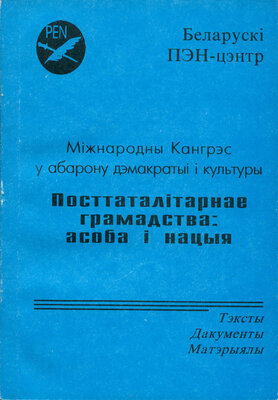Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Мне довелось служить в воздушно-десантном батальоне специального назначения. У нас была узкая специальность, караваны, караваны и еще раз караваны. В большинстве своем караваны шли не с оружием, а с товарами и наркотиками чаще всего ночью. Наша группа двадцать четыре человека, а их иногда за сотню переваливает. Где уж думать, кто там мирный караванщик, торговец, закупивший в Пакистане товар и мечтающий его выгодно продать, кто переодетый душман. Я каждый бой помню, каждого '‘своего” убитого помню и старика, и взрослого мужчину, и мальчишку, корчащегося в предсмертной агонии... и того в белой чалме, с исступленным воплем “Аллах акбар”. спрыгнувшего с пятиметровой скалы, перед этим смертельно ранившего моего друга... На моей тельняшке остались его кишки, а на прикладе моего АКМСа его мозги... По полгруппы нашей оставляли мы на скалах... Не всех имели возможность вытащить из расщелин... Их находили только дикие звери.. А мы сочиняли их родителям якобы совершенные ими “подвиги”. Это восемьдесят четвертый год... Да. нас нужно судить за содеянное, но вместе с пославшими нас туда, заставившими с именем Родины и согласно присяге выполнять работу, за которую в сорок пятом судили всем миром фашизм... Без подписи . Но вот проходят годы, и вдруг выясняется, что людям, всему человеческому сообществу мало того, что им оставляет история. Та история, к которой мы привыкли, где именно есть имена, даты, события, где есть факты и их оценка, но где не остается места для человека. Для того самого конкретного человека, который был не просто участником этих событий, некой статистической единицей, а представлял из себя определенную личность, был наполнен эмоциями и впечатлениями, историей, как правило, не фиксируемыми.. Я не помню, когда вышла книга Светланы Алексиевич “У войны не женское лицо" лет пятнадцать прошло уже, наверное, но я и сейчас зримо представляю потрясший меня эпизод. На марше женский батальон, жара, пыль, а в пыли то здесь, то там пятна крови. для женского организма нет перерывов даже на войне. Какой историк оставит нам такой факт? И сколько рассказчиков должен пропустить через себя писатель, чтобы выудить его из бессметного числа фактов, впечатлений? Или еще. После маршевого броска женский батальон ока зывается на берегу реки. Возможность обмыться одно из счастливых мгновений для женщин на войне. Весь батальон бросается в воду, но тут неожиданно появляются немецкие самолеты... Никто из женщин не вылез из воды, не бросился прятаться за деревьями... То. что было бы абсолютно нормальным для мужчин. После бомбежки десятки раненых и убитых девушек. Для них быть чистой, красивой, чувство стыда из-за неудобств мужского быта войны оказались сильнее страха смерти. Н мне этот факт рассказывает больше о психологии женщины на войне, чем целый исторический военный том. ... И как бы близко от нас ни были события афганской войны, чернобыльской трагедии, московских путчей, таджикских погромов, но вдруг выясняется, что все они уже стали достоянием истории, и уже новые катаклизмы приходят им на смену, и к ним, новым, уже приковано внимание общества. И уходят свидетельства, потому что человеческая память, оберегая нас, старается затушевать те эмоции и воспоминания, которые мешают человеку жить, лишают его сна и покоя. А потом уходят и сами свидетели... Ах, как не хочется многим “удельным князьям” канувшего в лету режима признать, что и над ними есть суд и суд людей, и суд истории! Ах, как не хочется им верить, что наступили времена, когда любой “шелкопер и бумагомаратель” может позволить себе поднять руку на “светлое будущее”, “очернить и унизить” его, подвергнуть сомнению “великие идеалы”! Ах, как мешают им книги, наполненные показаниями последних свидетелей! Можно дезавуировать генерала КГБ Олега Калугина: генералами КГБ проосто так не становяться. Но невозможно дезавуировать показания сотен простых смертных афганцев, чернобыльцев, жертв межэтнических конфликтов, беженцев из “горячих точек”... Зато можно “прижучить”, “поставить на место”, “заткнуть рот” журналисту, писателю, психологу, собравшему эти свидетельские показания... Нам, конечно, не привыкать. Судили уже Синявского с Даниэлем, подвергали анафеме Бориса Постернака, смешивали с грязью Солженицына и Дудинцева... Ну, замолчит Светлана Алексиевич. Ну, перестанут появляться свидетельства жертв нашего преступного века. А что же останется нашим потомкам? Слащавое сюсюканье любителей победных реляций? Барабанный бой вперемежку с бравурными маршами? Так ведь это уже все было. Через это мы уже прошли... Я. Басин, врач Газета “Добрый вечер”, 1 декабря 1993 года. С этими словами я хотел выступить в суде. Я причислял себя к тем, кто не принял книгу Светланы Алексиевич “Цинковые мальчики”. На суде я должен был стать защитником Тараса Кецмура... Исповедь бывшего врага, так можно теперь это назвать... Я внимательно слушал все, что два дня говорилось в зале суда, в кулуарах и подумал, что мы совершаем святотатство. За что мы терзаем друг друга? Во имя Бога? Нет! Мы разрываем его сердце. Во имя страны? Она там не воевала... В сконцентрированном виде Светлана Алексиевич описала афганскую “чернуху”, и любой матери невозможно поверить, что на подобное был способен ее сын. Но я скажу больше: описанное в книге лишь цветочки по сравнению с тем, что бывает на войне, и каждый, кто действительно воевал в Афганистане, положа руку на сердце, сможет подтвердить это. Сейчас мы находимся перед жестокой реальностью: ведь мертвые сраму не имут. и, если это срам был на самом деле, его должны принять на себя живые. Но живые это мы! И тогда оказывается, что мы были крайними на войне, то есть, кто выполнял приказы, оказываются крайними теперь, когда приходится отвечать за все последствия войны! Поэтому было бы справедливее, если бы книга такой силы и таланта появиласьне о мальчиках, а о маршалах и кабинетных начальниках, посылавших ребят на войну. Я спрашиваю себя: должна ли была Светлана Алексиевич написать об ужасах войны? Да! А должна ли мать вступиться за своего сына? Да! И должны ли “афганцы” вступиться за своих товарищей? И опять да! Конечно, солдат всегда грешен, на любой войне. Но на страшном суде Господь первым простит солдата... Правовой выход из этого конфликта найдет суд. Но должен быть и человеческий выход, который заключается в том, что: матери всегда правы в любви к сыновьям; писатели правы, когда говорят правду; солдаты правы, когда живые защищают мертвых. Вот что столкнулось на самом деле на этом гражданском процессе. Режиссеров и дирижеров , политиков и маршалов, организовавших эту войну, в зале суда нет. Здесь одни пострадавшие стороны: любовь, которая не примет горькую правду о войне; правда, которая должна быть высказана несмотря ни на какую любовь: честь, не приемлющая ни любви, ни правды, потому что помните: “Жизнь я могу отдать Родине, но честь никому” (кодекс русских офицеров). Божье сердце вмещает все: и любовь, и правду, и честь, но мы не боги, и этот гражданский процесс хорош только тем, что способен людям возвратить полноту жизни. Единственное, в чем я могу упрекнуть Светлану Алексиевич это не в том, что она исказила правду, а в том, что в книге нет практически любви к юности, брошенной на заклание дураками, организовавшими афганскую войну. И удивительно для меня самого, как “афганцы”, смотревшие в глаза смерти, сами бояться своей правды об афганской войне. Должен же найтись хоть один “афганец”, который скажет, что мы давно не серая, однородная масса, и слова Тараса Кецмура, когда он говорил, что не осуждает войну, это не наши слова, он не говорит это за всех нас... Я не осуждаю Светлану за то, что книга помогла обывателю узнать афганскую “чернуху”. Я не осуждаю ее даже за то. что после прочитанного к нам относятся гораждо хуже. Мы должны пройти через переосмысление нашей роли в войне как орудия убийства, и если есть в чем каяться, то покаяние должно придти к каждому человеку. Суд, вероятно, будет продолжаться долго и мучительно. Но в моей душе он завершен. Павел Шетько, бывший “афганец” Хроника суда Из стенограммы заключительного судебного заседания 8 декабря 1993 года. Состав суда, судья И.Н.Жданович, народные заседатели Г.В.Борисевич. Т.С.Сорока. Истцы: И.С.Головнева. Т.М.Кецмур. Ответчица: С.А.Алексиевич. Из выступления С.Алексиевич, автора "Цинковых мальчиков”. (Из того, что было сказано, и что не дали сказать). Я до конца не верила, что этот суд состоится, как не верила до последнего мгновения что у Белого дома начнут стрелять... Уже физически не могу видеть ожесточенные, яростные лица. И я бы не пришла в этот суд, если бы здесь не сидели матери, хотя я знаю: это не они со мной судятся, а судится со мной бывший режим. Сознание не партбилет, его не сдашь в архив. Поменялись наши улицы, вывески на магазинах и названия газет, а мы те же. Из соцлагеря. С прежним лагерным мышлением... Но я пришла поговорить с матерями. У меня все тот же вопрос, что в моей книге: кто же мы? Почему с нами можно делать все, что угодно. Вернуть матери цинковый гроб, а потом убедить ее подать в суд на писателя, который написал, как не могла она своего сына даже поцеловать в последний раз и обмывала в слезах, гладила цинковый гроб... Кто же мы? Нам внушили, с детства заложили в генах любовь к человеку с ружьем. Мы выросли словно бы на войне, даже те, кто родился через несколько десятилетий после нее. И наше зрение устроено так, что до сих пор, даже после преступлений революционных чрезвычаек, сталинских заградотрядов и лагерей, после недавнего Вильнюса, Баку, Тбилиси, после Кабула и Кандагара, человека с ружьем мы представляем солдатом 45-го, солдатом Победы. Так много написано книг о войне, так много изготовлено человеческими же руками и умом оружия, что мысль об убийстве стала нормальной. Лучшие умы с детской настойчивостью задумываются над тем: имеет ли право человек убивать животных, а мы, мало сомневаясь или наскоро соорудив политический идеал, способны оправдать войну. Включите вечером телевизор, и вы увидите, с каким тайным восторгом несем мы героев на кладбище В Грузин. Абхазии, в Таджикистане... И снова ставим на их могилах военные памятники, а не часовни...
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН