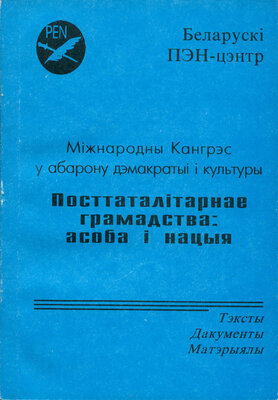Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
бы перед человеком поставили киноаппарат, и он бы записал всю его жизнь от рождения до смерти. Но нашелся бы в таком случае другой человек, согласившийся бы пожертвовать своей жизнью ради бесконечного просмотра этой удивительной киноленты? И сумел бы он за внешними событиями увидеть внутренние причины поведения “героя”? Легко представить ситуацию, что было бы, если бы автор “Цинковых мальчиков” сознательно отказалась от творческого отношения к собранным фактам и примирилась с ролью пассивного собирателя. Ей пришлось бы в таком случае записать на бумаге буквально все, что наговорили в своих многочасовых рассказах-исповедях герои “афганцы”, и в итоге получился бы (найдись издатель) пухлый том сырого, необработанного, не доведенного до существующего уровня эстетических требований материала, который просто бы не имел читателя. Больше того, если бы таким путем пошли предшественники С.Алексиевич в этом документальном жанре, то мировая литература не имела бы сегодня таких шедевров, как “Брестская крепость” С. Смирнова, “Нюрнбергский процесс” А.Полторака, "Обычное убийство” Т.Капотэ, “Я из огненной деревни” А.Адамовича, Я.Брыля, В.Колесника, “Блокадной книги” А.Адамовича и Д.Гранина. 4. Авторское право это сумма правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием и изданием литературных произведений, и они начинаются с момента создания книги, и состоят из конкретных, определенных законодательством правомочий (лично имущественных и неимущественных). Среди них в первую очередь выделяются права на авторство, на публикацию, переиздание и распространение произведения, на неприкосновенность текста ( только автор имеет право вносить в свое произведение какие-либо изменения или дает разрешение сделать это другим). Процесс сбора материала в соответствии с жанром документальной литературы требует активной роли автора, определяющего проблемно-тематическую суть произведения. Нарушение авторского права наказывается в судебном порядке. 5. Буквально точь-в-точь воспроизведение рассказов героев, как мы уже доказывали в ответе на третий вопрос, в документальном произведении невозможно. Но тут, конечно, появляется проблема воли автора, с которым герои в момент откровения поделились воспоминаниями и как бы передали ему часть своих прав на это свидетельство, надеясь на точную передачу их слов в первоначальном виде, на профессиональное мастерство автора, его умение выделить главное и опустить мелочи, которые не угубляют мысль, сопоставить факты и увидеть их в едином целом. В конце концов все решает художественный талант автора и его моральная позиция, его способность соединить документальность с художественным изображением. Меру правдивости, глубину проникновения в событие в этом случае может почувствовать и определить только сам читатель и литературная критика, которая владеет инструментарием эстетического анализа. Эту меру правдивости по-своему оценивают и герои произведения, они самые пристрастные и внимательные его читатели: соприкасаясь с феноменом превращения устного слова в письменное, а тем более напечатанное, они подчас становяться жертвами неадекватной реакции на собственный рассказ. Так человек, впервые услышавший свой собственнй голос на магнитофонной ленте, не узнает самого себя и считает, что произошла грубая подмена. Внезапный эффект возникает еще и в результате того, что рассказ одного свидетеля сопоставляется, стыкуется в книге с другими подобными рассказами, перекликается или отличается от них, или даже спорит, конфликтует с рассказами других героев-свидетелей: тогда заметно меняется отношение и к собственным словам. 6. Книга С.Алексиевич “Цинковые мальчики” целиком отвечает уже названному жанру документальной литературы. Достоверность и художественность присутствуют в ней в пропорциях, позволяющих отнести названное произведение к художественной прозе, а не к журналистике. И, к слову сказать, предшествующие книги этого автора (“У войны не женское лицо”, “Последние свидетели”) исследователи относят к документальной литературе. 7 В литературе, современной автору, очерчены определенные границы этики, если достоверная передача рассказа героя, его правдивое свидетельство о событиях, оценка которых еще не получила надлежащего признания в обществе, могут обернуться нежелательными результатами не только для автора, но и для героя. В таком случае автор, несомненно, имеет право на изменение фамилий и имен героев. И даже тогда, когда герою ничего не угрожает и политическая конъюнктура складывается в пользу книги, авторы нередко пользуются этим приемом. В фамилии главного героя “Повести о настоящем человеке” Мересьев писатель Б.Полевой заменил всего только одну букву, но сразу же возник эффект художественности: читатель уже понимал, что речь идет не об одном конкретном человеке, а о типичном явлении в советском обществе Таких примеров сознательного изменения имени в истории литературы множество. 8. Судебные процессы, подобные тому, который идет над С.Алексиевич, автором книги “Цинковые мальчики”, имеют еще, к сожалению, место в мире. Судебному преследованию в послевоенной Англии подвергался Дж.Оруэл, автор знаменитой антиутопии под названием “1984”, которого обвинили, что темой этой книги был тоталитаризм в том варианте, что возник в 20-м столетии. Смертный приговор в наши дни вынесен в Иране писателю С.Рушди за книгу, в которой якобы в издевательском тоне говорится об исламе: прогрессивная мировая общественность оценила этот акт. как нарушение права на свободу творчества и как проявление нецивилизованности. В клевете на Советскую Армию еще недавно упрекали писателя В.Быкова: многие опубликованные в печати письма от ветеранов-псевдопатриотов звучали, как суровый общественный приговор писателю, который первым осмелился сказать вслух правду о прошлом. И, увы, история повторяется. Наше общество, провозгласившее строительство право вого государства, пока что осваивает лишь азы самых главных прав человека, подменяя часто дух закона его буквой, забывая о моральной стороне всякого судебного дела. Право на защиту собственного достоинства, которое, по мнению истцов, было нарушено С. Алексиевич газетной публикацией отрывка из книги, не должно приниматься как право сегодня говорить автору книги одно, а завтра, в соответствии с изменением настроения или политической конъюнктуры, что-то совсем обратное. Появляется вопрос. Когда был искренен “герой” книги: тогда, когда дал согласие поделиться с С.Алексиевич своими воспоминаниями о войне в Афганистане, или тогда, когда под нажимом товарищей по оружию решил отстаивать корпоративные интересы определенной группы людей? И имеет ли он в таком случае моральное право на судебное преследование писательницы, которой в свое время доверился, зная, что его исповедь будет опубликована? Факты, сообщенные истцом автору и опубликованные в газете, не выглядят одиночными и случайными, они подтверждаются в книге другими аналогичными фактами, ставшими известными автору из рассказов других свидетелей тех же событий. Разве это не дает основание думать, что “герой” был искренен в тот момент, когда записывался устный рассказ, а не тогда, когда он отказывался от своих слов. И еще важный аспект: если нет' свидетелей разговора автора с “героем” и когда отсутствуют другие доказательства правоты одной или другой стороны, возникает необходимость в перепроверке всех подобных фактов, приводимых автором в своей книге, что можно было бы сделать на своеобразном “нюрнбергском процессе”, в котором бы приняли участие десятки и тысячи свидетелей войны в Афганистане. В противном случае существует опасность утонуть в бесконечных судебных разбирательствах, где пришлось бы доказывать чуть ли не каждое сказанное героями книги слово, а это уже абсурд. Поэтому обращение Белорусского ПЕН-центра в Институт литературы АНБ с просьбой сделать независимую литературоведческую экспертизу опубликованного в “Комсомольской правде” отрывка из документальной книги С.Алексиевич “Цинковые мальчики” представляется в данной ситуации естественным и, может, даже единственно возможным способом решить конфликт. Директор Института литературы им. Я. Ку палы Академии наук Беларуси, член-корреспондент АНБ В. А: Коваленко Старший научный сотрудник Института литературы, кандидат филологических наук М.А. Тычина 27 января 1994 года. И ЕЩЕ ОДИН ЭПИЛОГ, ОН ЖЕ ПРОЛОГ ... Тягостно мне писать о нас о тех, кто сидел в зале суда. В последней своей книге “Зачарованные смертью”Светлана Алексиевич пишет: “А кто мы? Мы люди войны. Мы или воевали, или готовились к войне, Мы никогда не жили иначе”. Мы воевали... Вот словно специально рассевшиеся за спиной писательницы женщины тихо, чтобы не слышал судья, но внятно для Светланы Алексиевич, состязаются в оскорблениях ее. Матери! Эпитеты таковы, что повторить их не могу... Вот И.Головнева в перерыве подходит к пришедшему вступиться за писательницу отцу Василию Радомыльскому: “Не стыдно вам, батюшка, продались за деньги!” “Тьма! Дьявол!” раздается из публики, и уже тянутся негодущие руки, чтобы сорвать с его груди крест. “Это вы мне? Мне, который отпевал ваших сыновей по ночам, потому что вы говорили, что иначе не получите триста рублей обещанной помощи?” потрясенно вопрошает священник. “Зачем пришел? Дьявола защищать?” “Молитесь за себя и за детей своих. Нет покаяния, нет утешения”. “Мы ни в чем не виноваты... Мы ничего не знали... “Вы были слепы. А когда открыли глаза свои, то увидели только труп своего сына. Кайтесь... ” “Что нам до афганских матерей... Мы своих детей потеряли...” Впрочем, не осталась в долгу и другая сторона. “Ваши сыновья убивали в Афганистане невинных! Они преступники! Ну и что, что приказ? кричит матерям какой-то мужчина. “Вы предаете детей своих во второй раз...” неиствует другой. А ты? А мы не выполняли приказ? Приказ молчать? Мы не тянули на собраниях вверх “одобряющие” руки? Я спрашиваю: нам всем нужен суд? Не этот суд другой, о котором говорил на суде председатель Белорусской Лиги прав человека Е.Новиков: когда мы все мы, молчавшие, матери наших погибших солдат, ветераны этой войны и матери погибших афганцев сядем вместе и просто посмотрим друг другу в глаза?
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН