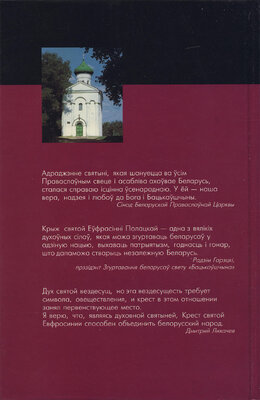Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны
Гісторыя Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай
Уладзімір Арлоў
Выдавец: Асар
Памер: 328с.
Мінск 1998
175
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
каплями на фоне волос обозначены уши, борода раздвоена, на лбу — маленькая прядь. Нимб Христа частично, а правая рука полностью утрачены. Левая рука поддерживает украшенное четырехлепестковой розеткой Евангелие. Исследовательница вынуждена пользоваться чернобелыми фотографиями, но интенсивность тонов позволяет предположить, что в арсенале мастера была эмаль пяти или шести цветов.
Ближайшей аналогией этого изображения является медальон барм* из хорошо известного археологам и искусствоведам Киевского клада 1824 года, и это позволяет высказать предположение, что Богша пользовался эмалями темнопурпурного, изумрудного, темносинего, светлоголубого, черного, телесного, белого и красного тонов. Между иконками медальона и Креста святой Евфросинии существуют отличия, но сходства значительно больше, что дает основания с высокой степенью вероятности вести речь об авторстве Лазаря Богши и в отношении киевского медальона.
Пластинка с эмальной иконкой Пресвятой Богородицы сохранилась достаточно хорошо. Аналогии с подобными изображениями позволяют считать, что для мафория полоцкий ювелир использовал темносинюю эмаль, для нимба — светлосинюю, для покрывала под мафорием — зеленую, для креста, губ и надписей — красную.
В хорошем состоянии и изображение Иоанна Предтечи: выразительное, с проникновенными глазами и густыми бровями лицо, волнистые волосы, борода. Иоанна, Луку, Матфея и Марка, изображения которых сильно повереждены, мастер представил с открытыми Евангелиями в руках. На примере евангелистов Т. Макарова отмечает характерный для произведений Богши тип лица: большие глаза, правильный нос, слегка опущенные уголки губ.
Пластинка с иконкой Евфросинии Александрийской не сохранила лица и рук святой, но восстановить ее облик можно, обратившись к знакомой уже нам фреске Спасского храма, которую называют вероятным портретом знаменитой полочанки.
«Портретный» ряд лицевой стороны Креста завершают изо
•Бармы — металлические (серебряные, золотые) либо сделанные из ткани наплечники с изображениями религиозных святынь, вышитымми золотом и украшенными эмалями, самоцветами и жемчугом.
176
КРЕСТ МАСТЕРА БОГШИ
бражения патронов родителей Евфросинии — святых Георгия и Софии. Они богаты колоритом, отличаются насыщенностью тонов.
Обратную сторону полоцкой реликвии «открывает» изображение Иоанна Златоуста в украшенном крестами омофоре. Гамма — пять цветов, в том числе красный и черный либо синий.
В иконке святого Василия Великого гармонически сочетаются белый, желтый, светло и темносиний, зеленый и красный или пурпурный цвета. Не менее пяти тонов эмали мастер использовал и на особой пластинке с орнаментом.
Полностью утрачена икона с апостолом Петром, воссоздать облик которого возможно благодаря русским и грузинским аналогам. От эмального портрета апостола Павла уцелела лишь правая рука, поддерживающая украшенное камнями Евангелие.
Святые Стефан, Димитрий и Пантелеймон исполнены в более сдержанном цветовом диапазоне. Утраченные фрагменты поддаются восстановлению по другим изображениям, в частности — архидиакона Стефана с каменной иконки, найденной в культурном слое первой половины XIII века на менском Замчище.
Необходимо подчеркнуть, что громадная ценность составленного Т. Макаровой описания Креста Богши — в его сравнительном характере. Это дало возможность с весьма высокой точностью как воссоздать утраченные или поврежденные изображения, так и реконструировать их цветовую гамму.
Памятник белорусской письменности
Крест Евфросинии Полоцкой — одновременно и ценный памятник древнебелорусской письменности. Короткая мелкая надпись на обратной стороне, возле мощей св. Пантелеймона, сообщает нам имя автора этого художественного шедевра и то, что он создан для храма святого Спаса: «Господи, помози рабоу своемоу Л азорю, нареченомоу Богъши, съделавъшемоу крьстъ сии црькви святаго Спаса и Офросиньи». Начало этой надписи совпадает с высеченной на «Борисовых камнях».
На позолоченных пластинках — большой текст с интересными историческими сведениями: «Въ лето 6669 покладаеть Офросинья чьстьный крестъ въ манастыри своемъ въ црькви
177
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
святого Спаса. Чьстьное древо бесценьно есть, а кованье его, злото и серебро и каменье и жьнчюгъ въ 100 гривнъ, а да... (пропуск. — В. О.) 40 гривнъ. Да не изнесеться из манастыря никогда же, яко ни продати ни отдати. Аще се кто преслоушаеть изнесеть и от манастыря, да не боуди емоу помощникъ чьстьный крестъ ни въ се(й) векъ, ни въ боудоущий и да боудеть проклять святою животворящею троицею и святыми отци 300 и 50(?) семию съборъ святыхъ отець, и боуди емоу часть съ Июдою, иже преда Христа. Кто же дрьзнеть сътвори се... (пропуск) властелинъ, или князь, или пискоупъ, или игоуменья, или инъ который любо человекъ а боуди емоу клятва си. Офросинья же, раба Христова, сътяжавъши крестъ сий, прииметъ вечную жизнь съ всеми святыми...»
Переведем этот текст на русский язык: «В лето 6669 (по современному летосчислению, 1161. — В. О.) кладет Евфросиния честной крест в монастыре своём, в церкви святого Спаса. Святое дерево бесценно, окова же его, золото и серебро, и камни и жемчуг на 100 гривен, а до... (пропуск) 40 гривен. Да не выносят его из монастыря никогда, и не продают, не отдают. Если же не послушает кто и вынесет из монастыря, да не поможет ему честный крест ни в жизни этой, ни в будущей, да проклят он будет святой животворящею Троицей и святыми отцами 300 и 50(?) семи соборов святых отцов и да постигнет его судьба Иуды, предавшего Христа. Кто же осмелится совершить такое... властелин, либо князь, либо епископ или игуменья, либо другой какой человек, да будет на нем это проклятие. Евфросинию же, рабу Христову, заказавшую этот крест, ждет жизнь вечная со всеми святыми...»
В первой части текста сообщается стоимость золота и серебра, а также драгоценных камней, пошедших на украшение креста. 40 гривен — видимо, плата, полученная самим Лазарем Богшей. Это была большая по тем временам сумма: примерно столько же платили за весь комплекс работ, связанных с мощением 8000 локтей (4000 метров) деревянной мостовой или за 160 лисьих шкур. Отсюда можно сделать вывод, что Богша — зажиточный ремесленникювелир, лично свободный человек. Богша — его светское имя, возможно, сокращенная форма от Богуслав. Мы помним, что наличие двух имен было тогда традицией: отец заказчицы креста князь Георгий носил, например, еще одно имя — Святослав.
178
КРЕСТ МАСТЕРА БОГШИ
Вторая половина большой надписи — типичное заклятие той эпохи, когда грабежи церквей были нередкими явлениями даже в мирное время. Бывали и случаи, когда, отъезжая, ценные предметы забирали с собою из храмов архиереи.
Любопытно, что заклятия подобного содержания были распространены как в Полоцке, так и в других древнебелорусских землях. На известном Полоцком Евангелии XIIXIV веков можно прочесть: «А хто иметь отнимати от св. Троици или вельможа, или попъ, иметь продавати, да будеть проклять в сии векъ и в будущий». В Дрогичине археологами был найден костяной черенок ножа ХПХШ веков с надписью: «Ежьковъ ножъ, а и украдет — проклят будеть».
Первая, деловая часть сохранившегося на Кресте текста написана на так называемом древнерусском языке, а во второй автор (вероятно, сама Евфросиния) обращается к церковнославянскому и использует присущие религиозной литературе образы. В надписи чувствуется влияние живого белорусского языка с его аканьем — например, «манастырь»; это воздействие заметно и в лексике — «пискоупъ» (епископ), «древо», «злото». Встречается в надписях на Кресте также десятеричное «і».
Гениальный художник
Уже отмечалось, что создатель Креста Евфросинии был человеком лично свободным и достаточно богатым. Это доказывают и высокая плата, полученная за исполнение заказа полоцкой игуменьи, и сама возможность оставить потомкам свое имя. Здесь, кстати, мы имеем дело с чрезвычайно редким исключением, ибо абсолютное большинство произведений искусства той эпохи является анонимным.
Краткая надпись на Кресте — своеобразный автограф гениального ювелира — говорит о том, что Богша был хорошо известным мастером перегородчатой эмали и само его имя уже служило гарантией совершенства выполненной работы. Вместе с тем специалисты узнают руку создателя нашей национальной реликвии и в целом ряде других, не подписанных произведений эмальерного искусства. Существуют и более поздние вещи, сделанные в русле традиции Богши, а значит — его учениками.
179
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
В отличие от мастеровсовременников, которые обычно отдавали преимущество какомулибо одному техническому приему искусства эмали, Богша с виртуозной легкостью пользовался всеми. Одеяния святых на его иконках то отличаются строгим геометризмом, то свободно и живописно льются, когда ювелир использует технику, при которой перегородки как будто «дрожат».
Чтобы отдельные перегородки создавали сложный гармонический рисунок, его необходимо было держать перед глазами. Византийские мастера обозначали контуры изображения иголкой. На эмалевых изделиях из восточнославянских земель следов такой подготовки не обнаружено. Мастера, видимо, рисовали эскиз на пергаменте или же наносили контуры на вощеную дощечку, после чего на нее накладывали золотые перегородки разных форм. Затем перегородки закреплялись клеем на золотой пластинке, заполнялись эмалевой массой, и происходил обжиг. Всеми этими операциями автор Креста владел как мастер высочайшего уровня.
Во время работы над своим шедевром Богша был уже, бесспорно, человеком зрелого возраста. В пределах исторической вероятности находится и мнение о том, что ПредславаЕвфросиния была знакома с прославленным ювелиром с детских лет. В его мастерской юная княжна могла выбирать себе украшения, восхищаться дивными эмалевыми иконками и необходимыми для их рождения сложными инструментами.
Характеризуя полоцкого мастера, авторы книги «Крест — хранитель всея Вселенный» (Минск, 1996) Л. Алексеев, Т. Макарова и М. Кузьмич пишут: «Действительно, никто из древнерусских эмальеров не был столь артистичен! Изображение Христа Спасителя не имеет себе равных среди произведений с перегородчатой эмалью русской работы... Его (Богши. — В. О.) искусство — безусловная вершина древнерусского эмальерного дела». Там же делается вывод о том, что авторство еще одного выдающегося произведения с образом Христа — медальона из Киевского клада 1824 года — несомненно принадлежит Богше. Кроме всего прочего, это может свидетельствовать, что в середине XII века полоцкий ювелир выполнял заказы великого князя киевского и, возможно, некоторое время работал в Киеве. В таком случае понятно, почему особенности его творческого подхода были заимствованы рязанскими эмальерами, проходив
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН