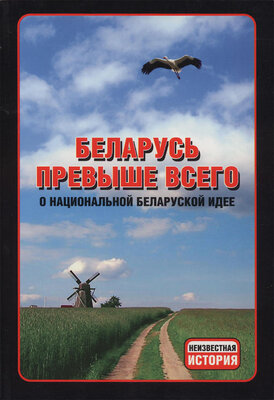Беларусь превыше всего!
(О национальной беларуской идее)
Анатоль Тарас
Памер: 240с.
Смаленск 2011
Идее «краевого патриотизма» противопоставляется этническо-культурный концепт нации, выдвинутый в Ирландии Гэльской Лигой, а в Украине — Обществом украинского языка и «Рухом» (Движением). Национальное освобождение связывается с культурным национализмом, который должен защитить от культурного и языкового наступления Англии в одном случае, России — в другом. Отсюда — призывы зачеркнуть столетия англизации и русификации. Но поскольку установить ирландскую или украинскую этнокультурную гегемонию вряд ли возможно, приобретение местным национализмом цивилизованных форм замедляется.
В ирландско-британском случае до сих пор не решена проблема «обиды на колонизатора». В этом плане на ирландско-британские отношения весьма похожи украинско-российские. Так
что не следует надеяться, что украинско-российские отношения нормализуются в течение ближайших десятилетий.
Ирландия потеряла, а Украина едва не потеряла свой язык. Ирландию колонизовали англичане и шотландцы, Украину — русские. И в Ирландии, и в Украине преследовали католиков (в Ирландии католики получили избирательное право намного позже протестантов). В обеих странах произошла ассимиляция высших слоев общества. И ирландцы, и украинцы превратились в «неисторические» крестьянские нации, лишенные национальных господствующих элит. В Ирландии погибли десятки тысяч, в Украине — миллионы, обе страны изведали голодомор, которому в Ирландии частично, а в Украине в большой степени способствовали власти метрополии. Миллионы ирландцев и украинцев уехали в Северную Америку, а также (в украинском случае) — в Сибирь и на российский Дальний Восток.
И в Ирландии, и в Украине колонизация остановила рост населения, тогда как в метрополиях он происходил быстрыми темпами. В 1654 году, когда Московия и Запорожская Сечь (Левобережная Украина) подписали Переяславльский договор, численность населения в обеих странах была примерно одинаковой. Сегодня в России она втрое больше, чем в Украине.
И в ирландском, и в украинском случаях неприязнь к господствующей нации, передававшаяся из поколения в поколение, в огромной мере повлияла на формирование образа «колонизатора». Англичане в течение столетий обращались с ирландцами как с варварами и вырожденцами. Английская и русско-советская национальная политика презирала, соответственно, гэльский и украинский языки, считала их «мужицкими», непригодными для современного мира.
После распада царской империи русские не стали создавать свое независимое государство. Вместо этого в 1922 году Россия навязала прежним колониальным окраинам идею Советского Союза. Центр этого государства (Москва) с 1934 года вернулся к царской национальной политике, направленной на слияние имперской территориальной (советской) и этнической (русской) идентичности.
Во второй половине 1991 года все союзные республики отделились от СССР, приняв декларации о суверенитете. РСФСР пришлось с этим смириться. Российские лидеры желали сохра150
нить конфедеративный союз независимых государств на постсоветском пространстве, в котором Россия по-прежнему доминировала бы в политической, военной, экономической и культурной сферах. Но такое понимание СНГ резко отличалось от идеи «цивилизованного развода», который поддерживала Украина, — для нее независимость была абсолютной ценностью.
Все 90-е годы Российская Федерация колебалась между идеями собственного национального государства и конфедерации с бывшими «союзными республиками». Но последние видят в такой конфедерации новый вариант подчинения, а не равноправного союза, поэтому он не находит поддержки даже у таких пророссийских государств, как Армения и Казахстан.
В трех колониальных странах — Украине, Беларуси и Молдове — целью политики имперского центра была либо полная ассимиляция народов, рассматривавшихся как ответвления единого русского племени (украинцы и беларусы), либо создание новой нации путем искусственного отделения бесарабов (молдаван) от румын.
Украина и Беларусь получили тяжелое колониальное наследие, от которого они вряд ли когда-нибудь освободятся до конца. Русский язык был языком прогресса (урбанизации, индустриализации, науки и техники), а также языком власти. Украинский и беларуский языки считались местными диалектами, на смену которым придет русский язык, как только оба этих народа ассимилируются в единую русскую нацию. Украинцы и беларусы усваивали мировую культуру через посредничество русского языка, тогда как украинский и беларуский языки утратили будущее и были оставлены умирать в деревенских хатах.
Советская историография и формирование наций
После 1934 года советская историография в основном вернулась к модели истории времен царской империи. Прочитав такую историю, «сам царь остался бы доволен». Эта историография служила имперской национальной политике компартии, разрабатывала и навязывала новую историческую мифологию, чтобы объединить все народы вокруг русского «старшего брата».
К середине 50-х годов советская историография с ее мифами прошла полный круг возврата к российско-имперскому образцу. Так, после нескольких ревизий, советская историография пре151
вратила советскую версию украинско-российских отношений в точную копию официально принятой в царское время. В 1954 году «Тезисы о воссоединении» (к ЗОО-й годовщине Переяславльского договора 1654 года между Запорожской Сечью и Московией) во многом повторяли схемы «официальной национальной политики» Николая I, впервые сформулированные в 30-е годы XIX века (например, в изданной в 1837 году «Русской истории» Николая Устрялова).
Основополагающими моментами исторического мифа советской историографии были следующие:
— превосходство «великороссов» («старших братьев») над всеми остальными;
— отсутствие национальной вражды между русскими и нерусскими как в прошлом, так и в настоящем;
— эти мифы должны были способствовать становлению советского (русского) патриотизма;
— господство России над Украиной и Беларусью было не результатом «завоевания», а «возвращением» под царскую опеку.
— нерусские народы не завоевывались, а присоединялись к Российской и советской империям только путем «объединений» и «воссоединений»;
— «объединение» и «воссоединение» давало в основном положительные результаты и в любом случае было «меньшим злом» (например, для Центральной Азии «объединиться» с Россией было «лучше», чем покориться Британии, для Беларуси было «лучше» подчиниться России, чем Польше);
— националистические выступления против империи не соответствовали желаниям народов, которые только и мечтали о том, чтобы слиться с русским «старшим братом»;
— предельная централизация управления объявлялась прогрессивным шагом;
— нерусские народы Союза неспособны создать собственные независимые государства;
— русская цивилизаторская миссия принесла много пользы соседним народам.
Согласно с новой национальной политикой СССР (версии 1947 и 1954 гг.), восточные славяне принадлежат к единому историческому сообществу, имя которому — «русский народ». Украинцы и беларусы не отдельные этносы, а местные ответвления 152
русского племени. Потому независимое государство для них — явление неестественное, существовать оно может исключительно «временно», до «объединения» с Россией.
Советская историография с ее русоцентризмом ограничила общую историческую память и самосознание народов в составе СССР пониманием своей этнографической специфики как географических единиц России. В восточной части Украины и в Беларуси эта царско-советская историография трансформировала историческую память и национальное самосознание населения в этнографический местный патриотизм, который не противоречил советско-русскому патриотизму.
2. История и национальное самоопределение на постсоветском пространстве
Историография и формирование нации
История никогда не бывает действительно объективной. По мнению Джонатана Фридмана, «сознательная политика заключается в том, чтобы связать современность с жизнеутверждающим прошлым. Поэтому былое выстраивается согласно со стремлениями тех, кто сегодня пишет учебники истории». Следовательно, «вся история, в том числе и современная историография, является мифологией», ибо «история — это отражение современности в прошлом»*.
Невозможно сформировать новое национальное самосознание, объединяющее население, без опоры на мифотворчество. Через мифы пробуждается понимание общей судьбы, они «делают акцент на сплоченность в борьбе против врагов, более ярко очерчивают границы». Чтобы возродить и изобрести новое «воображаемое сообщество», националисты всегда обращаются к прошлому. Энтони Д. Смит пишет:
«Без мифов, коллективной памяти и символов, проводящих раздел между участниками сообщества и «иноземцами», без культурной элиты, которая разрабатывает и объясняет мифы, настоящий этнос существовать не может»... «Мифы придают культурному сообществу ощущение значительности и содержательности, ощущение принадлежности к организованному народу».
* Русский и советский историк Михаил Покровский (1868-1932) утверждал то же самое: «История — это политика, опрокинутая в прошлое». — Прим. ред.
А колонизаторы стремятся стереть историческую память, и вместе с ней — национальное сознание, чтобы таким образом упростить ассимиляцию «туземцев». Поэтому возрождение исторической памяти, обновление национальной историографии тесно связано с возрождением национального сознания в противопоставлении себя — «Другому» (бывшей метрополии). Соответственно, вопрос о том, кому «принадлежит» прошлое, — это вопрос о том, кому принадлежит власть в настоящем.
Большинство населения бывшей колонии приветствует переосмысление прошлого, но у национального меньшинства может возникнуть ощущение измены. Например, русским тяжело привыкнуть к тому, что в Украине, Молдове и Казахстане они превратились в национальное меньшинство (в Беларуси они срослись с правящей элитой титульной нации). К тому же прежняя российская политика уже не рассматривается во вновь созданных независимых государствах в положительном свете.
После того периода, когда бывшие хозяева заставляли их думать, что сами они неспособны ни к чему без помощи «старшего брата», национальные элиты в бывших союзных республиках СССР стремятся вернуть себе чувство собственного достоинства. А для этого необходимо покончить с национальной дискриминацией и избавиться от комплекса неполноценности, привитого имперскими властями.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН