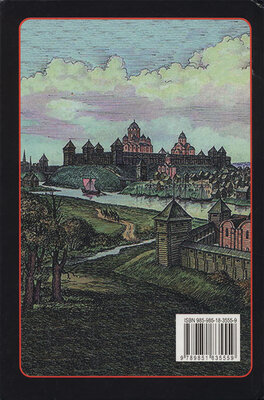Деды: дайджест публикаций о беларуской истории
Выпуск 14
Выдавец: Харвест
Памер: 320с.
Мінск 2014
Я назвал себя и вкратце рассказал свою историю.
Новый напарник чуть оживился и, с трудом переводя дыхание, заговорил:
— В последнее время я был наркомом внутренних дел Белоруссии... Сменил там вашего Бориса Бермана... Он после перевода из московского ИНО проработал в Минске несколько месяцев... Потом его арестовали... На смену прислали меня... Борис уже расстрелян... Мое дело тоже закончено... Скоро расстреляют и меня... А раз вас в камере соединили со смертниками Дьяковым (личность не установлена. — Ред.) и мною, то, очевидно, в должное время расстреляют и вас... Логично? Нам всем уготовлено одно и то же, но в разные сроки... Будем ожидать смерть пока что вместе... Скоро меня уведут, и вы останетесь один... Но недолго...
Нельзя сказать, чтобы новый товарищ такими разговорами успокоил и порадовал меня. Наши койки стояли друг против друга, я целый день вынужден был глядеть на него. Это был человек, что называется, неприметный или обыкновенный: все у него было по счету, два глаза, один нос и прочее как полагается, но запомнить цвет глаз и форму носа я не мог. Закрою глаза — и ничего нет, какаято недожаренная лепешка перед мысленным взором, некий средний человек, желтосерое пятно, и единственно, что запомнилось сразу, так это бывшее звание — Алексей Алексеевич был наркомом внутрених дел в маленькой республике, но все же наркомом. О себе он рассказывать не любил, и когда молчание становилось невыносимым, принимался развлекать себя и меня рассказами о Борисе, человеке, которого мы оба хорошо знали.
— Однако в Минске это был уже не тот Борис, которого вы когдато встречали в Берлине, и даже не тот, у которого частенько сидели в кабинете на Лубянке.
Я вспомнил высокого, стройного, молодого, вернее очень моложавого мужчину, любимца женщин, всегда веселого, энергичного, большого умницу, ловкого руководителя в хитросплетениях своих и чужих шпионских комбинаций. Борис заражал всех своей жизнерадостностью, товарищеской простотой, неизменным желанием помочь в беде.
— В Минске это был сущий дьявол, вырвавшийся из преисподней, — вяло бормотал Алексей Алексеевич, никуда не глядя, — он сразу поседел, ссутулился, высох. У меня дядя умер от рака печени, так вот тогда Берман так же ежедневно менялся к худшему, как раковый больной. Но у дяди болезнь была незаразной, а здесь же чахнул и таял на глазах сам Борис и при этом распространял вокруг себя
* Из книги воспоминаний Д.А. Быстролетова «Пир бессмертных» московского издательства «Граница» (1993 г.), с. 6672.
смерть. Он сам был раковой опухолью на теле Белоруссии... Дмитрий Александрович!
А?
— Слушайте: Борис расстрелял в Минске за неполный год работы больше восьмидесяти тысяч человек. Слышите?
— Слышу.
— Он убил всех лучших коммунистов республики. Обезглавил советский аппарат. Истребил цвет национальной белорусской интеллигенции. Тщательно выискивал, находил, выдергивал и уничтожал всех маломальски выделявшихся умом или преданностью людей из трудового народа — стахановцев на заводах, председателей в колхозах, лучших бригадиров, писателей, учёных, художников. Воспитанные партией национальные кадры советских работников. Восемьдесят тысяч невинных жертв... Гора залитых кровью трупов до небес...
Мы сидели на койках друг против друга: я, прижавшись спиной к стене, уставившись в страшного собеседника глазами, он, согнувшись крючком, равнодушно уронив руки на колени и голову на грудь.
— Вы слушаете, Дмитрий Александрович?
Да.
— Вы, наверное, удивляетесь, как смог Борис организовать такую бойню? Я объясню. По субботам он устраивал производственные совещания. Вызывались на сцену по заготовленному списку шесть человек из числа следователей — три лучших и три худших. Борис начинал так: «Вот лучший из лучших наших работников, — Иванов Иван Николаевич. Встаньте, товарищ Иванов, пусть остальные вас хорошо видят. За неделю товарищ Иванов закончил сто дел, из них сорок — на высшую
меру, а шестьдесят — на общий срок в тысячу лет. Поздравляю, товарищ Иванов. Спасибо! Сталин о вас знает и помнит. Вы представляетесь к награде орденом, а сейчас получите денежную премию в сумме пяти тысяч рублей! Вот деньги. Садитесь!»
Потом Семенову выдавалась та же сумма, но без представления к ордену, за окончание семидесяти пяти дел: с расстрелом тридцати человек и валовым сроком для остальных в семьсот лет. И Николаеву — две тысячи пятьсот рублей за двадцать расстрелянных и пятьсот лет общего срока. Зал дрожал от аплодисментов, счастливчики гордо расходились по своим местам. Наступала тишина. Лица у всех бледнели, вытягивались. Руки начинали дрожать. Вдруг в мёртвом безмолвии Борис громко называл фамилию: «Михайлов Александр Степанович, подойдите сюда, к столу».
Общее движение. Все головы поворачиваются. Один человек неверными шагами пробирается вперёд. Лицо перекошено от ужаса, невидящие глаза широко раскрыты. «Вот Михайлов Александр Степанович! Смотрите на него, товарищи!
Д.А. Быстролетов
Б.Д. Берман
За неделю он закончил три дела. Ни одного расстрела, предлагаются сроки в пять, пять и семь лет».
Гробовая тишина.
Борис медленно поворачивается к несчастному. Смотрит на него в упор. Минуту. Ещё минуту: «Я...» — начинает следователь. «Вахта! Забрать его!» Следователя уводят. Он идёт меж солдат покорно и тихо. Только в дверях оборачивается: «Я...» Но его хватают за руки и вытаскивают из зала.
— Выяснено, — громко чеканит Борис, глядя в пространство поверх голов, — выяснено, что этот человек завербован нашими врагами, поставившими себе целью сорвать работу органов, сорвать выполнение личных заданий товарища Сталина. Изменник будет расстрелян!
Потом Петров и Сидоров получают строгие предупреждения за плохую работу — у них за неделю по человеку пошли на расстрел, а человек по десяти — в заключение на большие сроки. «Всё, — поднимается Борис. — Пусть это станет для каждого предупреждением. Когда враг не сдаётся, его уничтожают!»
Таким способом он, прежде всего, терроризировал свой аппарат, запугивал его насмерть. А потом всё остальное удавалось выполнить легче. Иногда представляли затруднения только технические вопросы, то есть устроить всё так, чтобы население поменьше знало о происходящем.
Опять молчание, прерываемое только мирными трелями сверчка.
— А сколько вы сами расстреляли советских людей, Алексей Алексеевич? Тысяч сто? Больше?
— Да я что... — вяло шмыгает носом Наседкин, — я, конечно... объективные условия, так сказать... Работа есть работа, и если хотите, я расскажу, как производился забой. Технику, так сказать, покажу. Ведь если средняя длина тела мужчины примерно 170 сантиметров, высота от спины к груди 30 сантиметров, а ширина в плечах, скажем, 40 сантиметров, то, зная цифру убитых Берманом, можно вычислить кубатуру потребовавшихся могил. Давайте считать: 80000 на 170 — это будет...
Я не выдерживаю.
— Довольно. Окончите потом, Алексей Алексеевич. Не могу больше.
Наседкин сидит, согнувшись дугой. Я не вижу его лица, похожего на недожаренный блин, видна только лысая макушка — она как будто скалит на меня зубы. Я вздрагиваю, украдкой щиплю свои ладони и ломаю себе пальцы: так легче, это отвлекает.
— Теперь я расскажу об одном обстоятельстве, которое меня мучило больше всего — о ежедневном утреннем звонке из Москвы. Каждый день в одиннадцать утра по прямому проводу я должен был сообщать цифру арестованных на утро этого дня, цифру законченных дел, число расстрелянных и число осуждённых как общей цифрой, так и по группам. Москва всегда любила и любит точность во всём. Социализм — есть учёт.
Я являлся на полчаса раньше и залпом выпивал стакан коньяку: ничего иного делать не мог. Листик бумаги с колонкой цифр лежал уже на столе. Ровно в одиннадцать раздавался звонок и чейто равнодушный голос предупреждал: «Приготовьте телефонограмму». Щёлканье и шорох переключения. Наконец гортанное, хриплое: «Ну?» И я лепетал цифры в условленном порядке, одну за другой, без словесного текста. Вешал трубку. Вопросов никогда не было. Минут пять сидел в кресле не шелохнувшись — не было сил. В ушах всё ещё звучало страшное «Ну?». Потом выпивал второй стакан коньяку, облегчённо вздыхал и принимался за работу.
— Кому же принадлежал этот гортанный голос?
Наседкин долго молчал.
— Не знаю. Я был слишком маленьким человеком, чтобы сам хозяин мог звонить мне. Нарком Белоруссии — ведь это только начальник областного управления. Но областьто наша была не простой, вот в чём дело. И дела в ней, после приезда Маленкова и раздутого им дела о массовом предательстве, тоже вершились необычные. Боюсь думать... Не знаю... Не знаю...
Так до отбоя течёт наша едва слышная беседа, прерываемая постоянной фразой, звучавшей как извинение:
— Я это вам рассказываю, Дмитрий Александрович, потому что скоро умру не только я, но и вы. Здесь нарушения никакого нет: всё останется шитокрыто...
После отбоя Алексей Алексеевич сразу же засыпал — погружаясь в тихий и глубокий сон, как бы умирал до утра. А я лежал на койке и смотрел на него, на это страшное своей обычностью лицо: два глаза, один нос и всё прочее точно по счёту. Скучное лицо, похожее на непропечённую лепёшку.
А человек?!
Кто он, этот страшный палач?!
Однажды утром мы вернулись из уборной, и Наседкин розовый, с сияющими глазами, порывисто зашептал:
— Удача! Около стульчака я нашёл вот это!
И он показал мне ржавый острый отломок.
— Кусочек плевательницы! Повезло?! А?
Я недоумённо пожал плечами.
— Не поняли? Этим отломком можно перерезать себе вены! Понимаете?! Сегодня ночью это сделаю я. Я нашёл его и имею право резаться первым. Вы — потом, во вторую очередь!
— Я и не спорю.
— Вы будете вертеться на кровати и отвлекать дежурного! Согласны? Дайте руку! Милый,
как хорошо всё устроилось! Пожелайте мне второй удачи, главной, — смерти!
На этот раз серой лепешки не было. Порозовевшее лицо отображало внутреннее волнение, радость, злорадство, торжество. Может быть — счастье.
Как мало нужно иногда для человеческого счастья — сантиметровый отломок плевательницы! Если, конечно, условия быта станут нечеловеческими...
А.А. Наседкин
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН