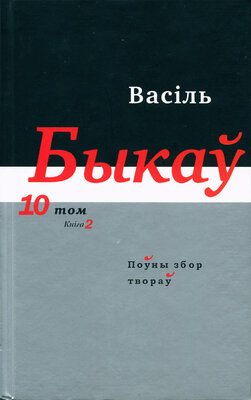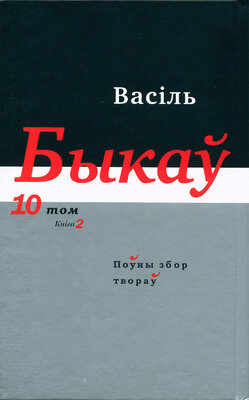Поўны збор твораў. Том 10. Кніга 2
Артыкулы, эсэ, прадмовы, выступленні, інтэрв’ю, гутаркі, калектыўныя творы (1981 -1990)
Васіль Быкаў
Памер: 640с.
Мінск 2019
— Вы «помеіцаете» своего героя, Васйлйй Владймйровйч, во все более трудные условйя. Взять хотя бы Мвановского йз повестй «Дожйть до рассвета» — лейтенанта, отдавшего жйзнь в обмен, еслй можно так сказать, на одну жйзнь обозного солдата й одйн воз соломы... Но не вознйкает лй для пйсателя в этом двйженйй к сутй опасность, отбросйв все, остаться перед пустотой?
Светплые бровй нахмурены... Острый, прйстальный взгляд. М не сразу, но твердо:
— Нет.
— Потому, что я следую за человеком. Что для меня главное? He как должно вестн себя в такой-то снтуацнн, а как поведет себя этот человек в этой снтуацнн.
— А еслй все пределы йсчерпаны?
— «Еслн» —это уже нз областн нгры...
— Ну, йгра йлй нет, а на вопрос вы прямо не ответйлй...
— А вы определнте сначала, где онн, этн пределы, на какой отметке расположены.
— Хорошо. Тогда я йначе спрошу: что двйжет вамй? Чем вы руководствуетесь, ставя своего героя во все более трудные обстоятельства...
— Мы, воспнтывая, куда чаіце показываем потолок, нежелн пол, небо — нежелн землю. Я протнв этого. Я за то, чтобы человек, в особенностн молодой, был пснхологнческн подготовлен к незнакомому, необычному. Необычное же — это не только выдаюіцееся. Это часто заурядное, но на пределах возможного... Такова судьба Нвановского, того же Сотннкова, да н старосты, н Дёмчнхн нз повестн «Сотннков». Что особенного совершнлн онн? Ннчего. Это по одной мерке, еслн мернть глобальнымм масштабамн. Н — многое, еслн мернть нначе. Онн сумелн остаться людьмн...
Мы, еслн говорнм о войне, то, конечно, прежде всего речь ведем о выдаюіцнхся подвнгах. Да, это нужно. Это н прнвлекает. Но, по-моему, полезно н важно говорнть н о простых, a еслн реально оценнвать опыт прошлого, то тоже чрезвычайно трудно сохраняемых.ценностях. О честл, о достоннстве человека, которое тогда только достоннство, когда оно нензменно: н в улнчной драке, н в обшенмн с начальннком, н в стремнтельной фронтовой атаке, н однн на однн — в столкновеннн с вражескнм танком. В такнх разговорах не красота, не романтнка должна быть главным аргументом. A — правда. Будннчная правда. Ведь ужас будннчной, безвестной смертн — одно нз
самых тяжкйх йспытанйй для человеческой душй. На войне редкому человеку выпадало взорвать эшелон, унйчтожйть колонну вражескнх танков. Для этого, кроме характера, нужны й средства, й время, й место, й мнопіе другве условйя. Которые должны еіце й совпасть. Нередкйм было другое. Каждому надо было быть готовым отдать жйзнь, чтобы не прошел хотя бы одйн вражескйй солдат. Чтобы отстоять хотя бы одну пядь родной советской землй.
Да, мы верйм, мы убеждены, что жйзнь всегда побеждает. Но в основе этой веры должен быть не бездумный нанвный автоматнзм: гюсле «сегодня» обязательно наступйт «завтра»... Наступнт. Еслй, конечно, каждый сознательно готов обеспечйть его настуйленйе. Речь — о сйле, о способностй выстоять й в тех случаях, когда выжйть — не достойнее, чем умереть. Когда выжйть — значнт подчас согласпться, сломаться... Рыбак, напрймер, выбрал жйзнь. Любой ценой, цевой честн — но жйзйь. Сотнйков выбрал достойнство.
— Но на войне былй, вероятно, й йные сйтуацйй? М йные решенйя прй не менее однозначных обстоятельствах...
— Разумеется. Когда жйть — означало побеждать. Бороться й побеждать: с оружнем, без оружйя, даже фактом суіцествованйя своего несдаюіцегося «я». Но не надо оболыцаться вйдймой йростотой й легкостью такой судьбы... Рыбаку й эта судьба вряд лй была по Сйлам: ведь жйть, положйм, в концлагере, в гестаповском застенке, под пыткамй, под страхом крематорйя составляло куда более страшное йспытанйе, нежеля умереть...
— Васйлйй Владймйровйч, прйземленность отрезвляет, но она же, как йзвестно, может подрезать крылья.
— Да нет, вы не правы. Хочешь вырастнть стойкой, глубокой молодую душу — не допускай «ножнйц» меж реальным й должйым, меж тем, что есть в жйзнй, й тем, что ты, йз лучшйх побуждевйй, частнчно умалчйвая, местамн дрйукрашйвая, сообіцаешь о ней. «Ножнйцы» — это две моралй, две совеста, две нормы йоступка.
Это ве что нное, как восіштательный, педагогнческйй брак. К важнейшему делу восвйтання необходймо подходйть только с позйцйй партнйностй, только с позйцйй йравды. Суровая же школа жйзвевной правды еіце нйкогда й нйкому не помешала.
— Нынешнйе молодые... Колй ужмы заговорйлй, то давайте до конца определйм: какймй вы ux вйдйте?
— Онй мне, в обіцем-то, нравятся... Тут вот что важно: еіце ннкогда нравственные состоянпя войны й мнра не совпадалй
полностью. Смелый в мнрной жлзлл — не значлт еіце яелременный храбрец на войне. Н по-другому: парень, на которого рукой махнулн — как знать? — может, он-то героем л станет! Я все это к тому, чтобы предостеречь от скоропалнтельностл: к месту л не к месту прлкладывать беспотадно жесткле фронтовые меркл — к мнрной-то жлзнл... Прлкладывай, да не ошлблсь.
— А вы не бойтесь ошйбйться, «прйкладывая» свой, тоже военные, меркй к современным проблемам?
— А это вовсе не так! — засмеялся Быков. — Ннчего-то я не прнкладываю л не прлтяглваю.
— Непонятно...
— Я просто счлтаю, что должно быть обіцее, л есть оно — скажем, на глубнне корней: фллософсклх, нравственных. Этлто «корнл» меня л ллтересуют.... Конечно, автору, говоря слогом старомодных романов, хотелось бы надеяться, что все же некоторые его нравственные л фллософскле выводы окажутся уялверсальлымл.
— Некоторые?
— Да. Некоторые, — стаповлтся ол сразу серьезным. — Мы утверждаем: в жлзлл всегда есть место подвлгу. Совершеняо справедллвое крылатое выраженле. Только как бы лам всем лзбежать упроіцечля в его понлманлл л толкованлл! Вот когда все уезжалл на целлну, одлн поэт взял л наплсал одно яркое стлхотворенле, как хорошо ехать ла целллу, вот бы сейчас л ол поехал — л так далее... Стлхотворенле лапечаталл. Похвалллл. Поблагодарллл. Н предложллл поехать. «Да вы что, товарлшл?! — взмолллся поэт. — He поллмаете?! Мое дело — наплсать, а поехать — это уже лх дело!»
Как бы лам л так сделать, чтобы «наплсать» л «поехать», «отправлть» л «пойтл» — совпадало в одвом человеке до точкл... Я вообпіе счлтаю, что нужчо беспоіцадно наказывать тех, кто, сам оставаясь в тенл, берется подталклвать кого-ллбо на поступок, которые сам бы лл за какле коврлжкл ле совершлл л родному сылу бы ле посоветовал.
Тут важло время, как говорлл Достоевсклй, представлть, что ла месте другого, чужого — твоя сестра, твой сып, твоя мама. Наколец, еслл этого мало, то л ты — сам.
— Что же вас занймает более всего, что для вас важнее — «война» wiu «мйр»? Проблемы прошлого йлй проблемы совре.менные?
— Как вам сказать? — задумался Быков, отклдываясь в кресле л уроллв светлые толкле волосы ла белый вахмурел-
ный лоб. — Я в любом случае предпочнтаю говормть о настояшем, а не только о прошедшем. Хотя в прошлом нашн корнн, н надо разбнраться в ннх, чтобы понять, куда н как растет ствол настояіцего...
Это, наверное, н есть самое важное?
Ннтервью вел Александр Афанасьев.
[1983]
[ІНТЭРВ’Ю ГАЗЕЦЕ
«ГОЛАС РАДЗІМЫ»]
— А як жа, Васіль Уладзіміравіч, склалася першая кніга? Чаму вы ўзяліся за пяро?
— He адразу. Спатрэбілася каля дзесяці год, каб асэнсаваць горыч перажытага. Я прадстаўнік забітага пакалення. 3 кожнай сотні маіх аднагодкаў, што пайшлі на фронт, у жывых засталося трое. Усяго ж савецкі народ страціў у барацьбе з фашызмам 20 мільёнаў сваіх лепшых сыноў і дачок. У зямлю ляглі людзі, якія маглі будаваць гарады і вырошчваць хлеб, любіць і нараджаць дзяцей... Такія раны не загойваюцца.
Я ўцалеў, хоць пасля аднаго з баёў каля вёскі Вялікая Севярынаўка таварышы, палічыўшы мяне забітым, унеслі маё прозвішча на абеліск над брацкай магілай. Лічу сваім абавязкам ад імя загінуўшых выкрываць жорсткасць вайны, яе антычалавечую сутнасць. Асэнсаванне ваеннага мінулага, якое з’яўляецца цэлай эпохай у жыцці народа, даследаванне псіхалогіі звычайнага чалавека ў незвычайнай гістарычнай схватцы — галоўная тэма маёй творчасці.
— Наколькі аўтабіяграфічныя вашы творы?
— Кожная мая аповесць пра вайну створана на падставе асабістага вопыту і ўяўлення або дакладных ведаў і домыслу. Домысел пры гэтым прасціраецца строга ў межах магчымага. Напрыклад, адна з маіх першых аповесцей «Трэцяя ракета». Я сам камандаваў у стралковым батальёне ўзводам процітанкавых 45-міліметровых гармат, з якімі перажыў на фронце нямала драматычных момантаў. «Саракапятку» за яе недастатковую эфектыўнасць як процітанкавага сродку пяхоты і нас напаўжарт-напаўсур’ёзна называлі «бывай, Радзіма». Сапраўды, вельмі многія з нас назаўсёды развіталіся з Радзімай. Для апо-
весці я ўзяў адны суткі баёў «саракапяткі», але ўшчыльніў у іх звычайныя падзеі нашых будняў.
— Ваша новая аповесць «Знак бяды», якая летась друкавалася у часопісе «Полымя», была адзначана ў друку як этапны твор, дзе Васіль Быкаў выходзіць на новыя для сябе межы...
— У «Знаку бяды» няма франтавых баёў, партызанскага змагання, партызан. Ёсць толькі маленькі хутар і двое яго жыхароў — Сцепаніда і Пятрок, што ціха дажывалі тут свой век, калі прыйшла вайна.
— Ці зрабіла ўплыў теорчасць іншых літаратараў на фарміраванне вашых поглядаў?
— Сапраўды, пра вайну было напісана ўжо нямала. Дастаткова, напрыклад, успомніць кнігі выдатнага савецкага баталіста Канстанціна Сіманава. Але мне бліжэй аказаліся першыя кнігі такіх маіх равеснікаў, таксама былых франтавікоў, як Рыгор Бакланаў, Юрый Бондараў, Віктар Астаф’еў. Іх цяпер называюць другой хваляй савецкай ваеннай прозы. Яе вызначае перш за ўсё паказ вайны не з вышыні камандных пунктаў армій, а адлюстраванне яе праз радавых працаўнікоў фронту — салдат, страявых камандзіраў. Я зразумеў, што змагу сказаць тут і сваё слова.
Мяне цікавяць не нейкія чыста стратэгічныя ваенныя моманты. Гэта справа гісторыкаў. Літаратуру пра вайну павінна займаць душа ваюючага чалавека, маральныя аспекты яго паводзін. I я сканцэнтраваў увагу на праблеме: чалавек і яго душа ў нечалавечых умовах смяртэльнай сутычкі, у дадзеным выпадку з нямецкім фашызмам.
— Хемінгуэй вуснамі аднаго са сваіх герояў сцвярджае: «Чалавек адзін не можа». Вы ж, як правіла, пакідаеце сваіх герояў сам-насам са злым лёсам, у самых трагічных абставінах прымушаючы іх часам рабіць пакутлівы выбар паміж смерцю і несумленным учынкам...
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН