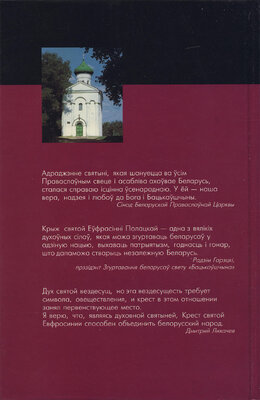Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны
Гісторыя Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай
Уладзімір Арлоў
Выдавец: Асар
Памер: 328с.
Мінск 1998
Полоцк тех времен с его монастырями и церквами, с основанной в 992 году епископской кафедрой — крупный центр книжной науки. Никоновская летопись неслучайно сообщает о полоцком князе Изяславе (умер в 1001 году), что он «прилежаша прочитанию» книг. Долгое время — пока не была найдена
* X о р с — в мифологии восточных славян бог солнца, покровитель земледелия.
78
«ЯКО ЛУЧА СОЛНЕЧНАЯ...»
известная Гнездовская надпись — печать с именем этого князякнижника считалась древнейшим образцом письменности всех восточных славян. До наших дней дошла и найденная на Рюриковом городище в Новгороде печать самой Евфросинии, хранящаяся ныне в фондах Новгородского историкоархеологического заповедника.
В Полоцке вели летопись, отрывки из нее сохранились до XVIII века и попали в так называемый Еропкинский список, которым пользовался русский историк В. Татищев. О высоком для того времени уровне грамотности говорят также граффити* полоцких храмов, ценные памятники эпиграфики «Борисовы камни». Уже в наши дни надпись середины XI века была обнаружена на большом камне из фундамента Софийского собора. Возможно, найден «автограф» древних зодчих. В памятниках письменности Полоцкой земли часто встречается десятеричное «і» — полочане были знакомы с латинским алфавитом.
На протяжении большей части своей истории княжество сохраняло независимость от Киева. Конечно, это не означало оторванности Полоцка от соседних земель, с которыми он всегда имел тесные государственные, торговые и культурные связи. Вместе с тем самостоятельность, кроме политических и экономических выгод, давала большую творческую свободу местным зодчим, живописцам, другим талантам, которым не нужно было обязательно ориентироваться на киевские образцы. Такие условия способствовали развитию целого ряда культурных особенностей, что дает основания называть Полоцкую землю не только нашим первым государством, но и колыбелью белорусской культуры.
Здесь, на берегах Двины и Полоты, в Полоцке или в одной из близких княжих вотчин и появилась на свет девочка, которой предначертано было навсегда остаться в истории и памяти народа.
Внучка Чародея
Будущая святая родилась в семье князя СвятославаГеоргия, младшего сына Всеслава Чародея. Случилось это через несколько лет после смерти прославленного полоцкого властелина.
• Граффити — древние надписи, сделанные острыми предметами на стенах зданий.
79
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
Девочку назвали древним кривичским именем Предслава. По тогдашнему обычаю полученное при рождении имя после крещения могло измениться, но маленькая княжна осталась Предел авою.
С детства она слышала от родителей предания о прославленных предках. В ее сознание рано вошло имя непокорной Рогнеды, которую муж — Владимир Красное Солнышко вынужден был отправить с малолетним сыном Изяславом назад на родину. Предславу привлекала и легендарная личность деда Всеслава. Его битва с войском князей Ярославичей на Немиге, вероломное пленение и киевская темница, восстание 1068 года, когда киевляне «прокричали» Всеслава великим князем, возвращение в Полоцк и продолжение борьбы с Киевом — воспоминания об этих событиях давали княжне яркие примеры преданности родной земле.
Училась Предслава в школе при Софийском соборе или дома, при княжьем дворе (это более вероятно). Учителями были духовные особы, в первую очередь монахи, учебниками — Святое Писание, житийная литература... От наставников, из жизнеописаний святых девочка получала и представления о монастырских уставах и обычаях. Наука давалась ей значительно легче, чем ровесникам. «Житие» отмечает ее любовь к учению, прилежание и большие способности.
Княжеская дочь имела широкий доступ к книгам. Уже в отцовском доме кроме богослужебной и другой религиозной литературы, Предслава могла читать «Изборники» с изречениями и афоризмами, переведенный с греческого роман о подвигах Александра Македонского — «Александрию», остросюжетную «Повесть об Акире Премудром»... Позднее их сменили сочинения с богословскими толкованиями сущности природы, книги по античной истории.
Детство княжны проходило не только в родительском тереме. Ее привлекал многоголосый и многоязычный торг, где можно было услышать гусляра, увидеть выступления «веселых людей» — скоморохов. Предслава заходила к жившим на посаде торговцам и ремесленникам. После тесных курных изб простого люда особенно поражали девочку полоцкие храмы и прежде всего величественный Софийский собор с его богатыми фресковыми росписями.
От кормилицы, нянек, от матери — княгини Софии она слы
80
«ЯКО ЛУЧА СОЛНЕЧНАЯ...»
шала сказки, обрядовые песни, заговоры и заклятья. Своеобразное двоеверие существовало на Полотчине даже в княжескодружинной среде, а значит, Предслава хорошо знала языческий пантеон. В юные годы она была зрительницей, а возможно, и участницей русалий, купалий, коляд и других дохристианских праздников.
Слава о красоте и образованности Предславы разнеслась «по всем градам», и в Полоцк, к князю СвятославуГеоргию, зачастили сваты. «Житие» рассказывает, что, когда княжне исполнилось двенадцать лет (с такого возраста девочку в те времена считали невестой), родители решили выдать ее замуж за сына некоего славного богатством и княжением правителя. Впереди у Предславы была обычная для женщин ее круга судьба: рождение и воспитание детей, домашние хлопоты, ожидание своего князягосподина из похода или с охоты...
И тут неожиданно для близких она избирает другую дорогу.
Христова невеста
«Наполнишись мысли ея, — говорится в «Житии», — и рече въ себе: «Но что успеша при нас бывший родове наши? И женишася, и посягоша <выходили замуж>, но не вечноваша. И житие их мимо тече. Слава их погыбе, яко прах, и хужьши паучины... А другыя паче железу выя <шея> своя не преклониша, но духовным мечем отсекоша от себе плотские сласти... то ти суть памятни на земли».
Предслава приходит в монастырь. Ее тетка, вдова князя Романа Всеславича, которая была игуменьей, «не хотящи острищи ея... и воздохнувши, и прослезившися, глагола къ ней: «Чадо мое! Како могу се сотворити? Отец твой, уведав, со всяцем гневом возложить вред на голову мою. А еще юна еси возрастом. Не можеши понести тяготы мнишеского житиа. И како можеши оставити княжение и славу мира сего?» Однако Предслава добивается своего и под именем Евфросинии втайне от родителей принимает постриг, посвящая себя Христу.
Белорусский исследователь «Жития» Алексей Мельников считает, что случилось это, вероятнее всего, 25 сентября — в день святой Евфросинии Александрийской.
Узнав о поступке дочери, князь СвятославГеоргий, как по
81
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
вествует «Житие», от горя рвал на голове волосы, а княгиня София причитала по Предславе, как по покойной. Это было первое и очень тяжелое испытание юной Христовой невесты, но она сумела убедить родителей в правильности своего выбора, в том, что они должны не печалиться, а радоваться: их дочь отдала всю себя Господу.
Приход Предславы в монастырь и связанные с этим обстоятельства дают возможность с большей или меньшей достоверностью установить дату ее рождения. Из «Жития» следует, что пострижение произошло, когда будущей подвижнице было двенадцать лет. Князь Роман Всеславич, вдова которого была настоятельницей монастыря, умер около 1116 года (по другим сведениям — в 1113). Только после этого тетка Предславы могла стать игуменьей. Значит, святая Евфросиния родилась не ранее 1104 (или 1101) года.
Что касается пострижения княжны, то существует интересная версия, к которой склоняется, например, историк Микола Ермолович. Согласно ему, к пострижению Предславу могли подтолкнуть и внешние причины — суровая необходимость избежать высылки на чужбину. В 1129 году за отказ выступить в поход на половцев киевский князь Мстислав выслал полоцких князей в Византию. В числе изгнанников летопись называет и отца Евфросинии, вместе с которым покинуть Родину должны были также ее мать и младшая сестра Гордислава. Как мы знаем, династия Рогволодовичей была в родстве с византийскими императорами Комнинами. Таким образом, высылка имела в известной степени почетный характер (полоцкие князья получили должности в византийской армии и участвовали в войне с арабами), и все же это было изгнание. Можно только догадываться, дождалась ли Евфросиния всех своих родных назад: определенного ответа летопись не дает.
Полоцкая книжница
В формировании взглядов Евфросинии Полоцкой, которая стала одной из просвещеннейших женщин своего времени, исключительную роль сыграла литература той эпохи.
Принятие восточнославянскими землями христианства требовало перестройки прежнего мировоззрения: представлений о
82
«ЯКО ЛУЧА СОЛНЕЧНАЯ...»
Вселенной, природе, об истории человеческого рода... Среди книг, которые переводили и переписывали приехавшие византийские и болгарские священники, а также их местные последователи, большинство составляли, конечно же, богослужебные тексты и книги, где излагались основы христианских взглядов на мир и христианской морали. Однако в монастыри и в княжеские терема попадало и немало произведений других жанров: хроник, исторических и историкобытовых повестей, природоведческих трактатов. Вообще же литература того периода отражала мировоззрение, типичное для многих христианских стран раннего средневековья. «Древнерусскую литературу*, — пишет академик Д. Лихачев, — можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет — всемирная история, и эта тема — смысл человеческой жизни».
Кроме библейских книг, Евфросиния еще в юности не могла не читать произведений патристики — римских и византийских богословов, почитающихся как отцы церкви. В полоцких книжных собраниях XII века несомненно имелись сочинения выдающегося византийского проповедника Иоанна Златоуста (344407), который учил верующих христианским добродетелям, образно изобличал человеческие пороки. Распространены в то время были также произведения Григория Назианзина, Василия Кессарийского, Ефрема Сирина, Иоанна Синайского. Патристическая литература укрепляла основы христианской догматики, имела большое значение в утверждении этических идеалов. Тем же целям служили жития святых и патерики — сборники коротких рассказов о людях, прославившихся своим благочестием. Со страниц этих книг представал фантастический, полный чудес мир, где за души людей упорно сражались силы добра и зла. Волнующие проблемы будущности мира, человеческой участи после смерти затрагивались в апокрифах**, к примеру, в таком популярном, как «Хождение Богородицы по мукам». Во времена Евфросинии, а возможно, и раньше в Полоцк могли попасть и книги святых Кирилла и Мефодия, известные по описанию библиотеки Софийского собора, сделанному в конце XVI века.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН