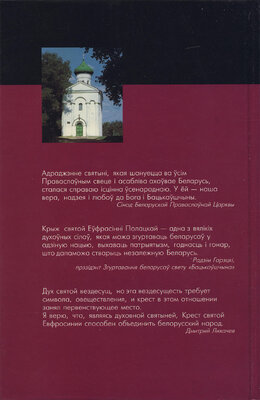Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны
Гісторыя Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай
Уладзімір Арлоў
Выдавец: Асар
Памер: 328с.
Мінск 1998
Часть переписанных Евфросинией книг шла на продажу, а полученные деньги по ее просьбе раздавали бедным.
Какие же книги долгими часами изо дня в день переписывала княжна в софийской голубнице? «Житие» не дает ответа, но можно с уверенностью говорить, что это было Святое Писание и сочинения отцов церкви, патерики и жития. Кроме них, перо просветительницы могло выводить строки византийских исторических хроник и Полоцкой летописи, популярных тогда сборников афоризмов. Евфросиния писала и собственные произведения — молитвы, проповеди, а также переводила с греческого и с латинского языков. Таким образом, некоторые произведения византийских авторов могли распространяться на восточнославянских землях в переводах полочанки.
Из «Жития» известно, что святая поддерживала переписку с Византией. Не будет противоречить исторической вероятности мысль, что Евфросиния обменивалась посланиями со своими соотечественниками и братьями по духу Кириллом Туров
88
«ЯКО ЛУЧА СОЛНЕЧНАЯ...»
ским, Климентом Смолятичем, а вероятно, и с автором «Слова о полку Игореве».
Конечно, при всей самоотверженности молодой монахини плоды ее затворнических трудов были относительно невелики. Евфросиния мечтала о том, чтобы перепиской книг в Полоцке занимались не одиночки, а десятки грамотных людей.
«Здесь надлежит быть тебе!»
Когда подвижники достигают нравственного совершенства, Господь призывает их к созданию своих духовных твердынь. Так было суждено и Евфросинии.
«Житие» рассказывает, что однажды во сне ангел взял ее за руку и отвел за две версты от Полоцка в Сельцо, где находилась деревянная церковь Спаса и каменный храмусыпальница полоцких епископов. На этом месте ангел сказал монахине: «Здесь надлежит быть тебе!»
Сон повторился трижды.
В ту же ночь подобный сон видел и полоцкий епископ. Небесный посланник велел ему ввести рабу Божью Евфросинию в Спасскую церковь, что в Сельце на берегу Полоты. Епископ услышал также пророчество о богоизбранности княжны, которую ждали святая жизнь и царство небесное.
Пригласив дядю Евфросинии полоцкого князя Бориса, ее отца СвятославаГеоргия и именитых полочан, владыка объявил княжнечернице, что отдает ей Сельцо. Получив благословение, Евфросиния помолилась в Софийском соборе и, взяв с собой одну монахиню, отправилась на указанное ангелом место.
Войдя в церковь Спаса, подвижница обратилась к Всевышнему с такими словами: «Ты, Господи, давая святым своим апостолам завет, повелел не носить с собою ничего, кроме посоха. Я же, повинуясь слову Твоему, пришла на место сие, ничего не взяв с собою, имея в себе только слово Твое: Господи, помилуй! А из богатства есть у меня только эти книги, которыми душа утешается и возвеселяется сердце...»
Так вблизи от Полоцка Евфросиния основала женский монастырь. Случилось это еще при жизни Бориса Всеславича, значит, не позже 1128 года, когда князь умер. Спустя некоторое
89
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
время при церкви Богородицы (новой) подвижница учреждает еще одну обитель — мужскую. Это тоже был подвиг: тогда, в начале XII века, монастырей в Полоцком княжестве, как и в других восточнославянских землях существовало немного. (От мужской обители Пресвятой Богородицы до наших дней не сохранилось никаких следов. Место, где она располагалась, точно не известно, но во времена Евфросинии был обычай строить загородные женские и мужские монастыри в близком соседстве, чтобы в случае опасности монахи защищали обе обители. Историк Алексей Сапунов высказал догадку, что церковь Богородицы и созданный при ней монастырь находились на том месте, где позднее появился костел св. Ксаверия, о котором теперь напоминает только название одного из полоцких кладбищ — Ксаверия, и это наиболее вероятно.)
В полоцких монастырях, уставы которых написала сама Евфросиния, под ее руководством действовали мастерские по переписке книг — скриптории. Тут существовала специализация: один мастер делал цветные инициалы, второй — миниатюры, третий — переплеты. Когда была необходимость переписать книгу быстрее, ее делили на несколько частей. Разделение труда значительно увеличивало не только число книг, но и их художественный уровень. Из скрипториев книги расходились по всей Полоцкой земле и за ее пределы. Их читали ученые монахи и другие грамотные люди, по ним учились дети.
При одном из монастырей, чтобы украсить полоцкие храмы иконами, подвижница открыла иконописную мастерскую.
Созданные преподобной Евфросинией твердыни слова Божьего были и очагами благотворительности. Там находили защиту, утешение и помощь вдовы и сироты, немощные и обиженные. Есть основания говорить о существовании при некоторых полоцких монастырях богаделен и, возможно, больниц.
Аз, буки, веди...
Полоцкое княжество нуждалось в образованных людях. Школы были тут и до Евфросинии, но основание подвижницей монастырей, ее педагогическая деятельность дали школьному делу новый мощный толчок.
90
«ЯКО ЛУЧА СОЛНЕЧНАЯ...»
Дети в тогдашних школах учились чтению, письму, «цифири» и церковному пению. В литературных памятниках той эпохи часто можно встретить похвалу книжному учению. Они сравнивают людей без науки с бескрылыми птицами: подобно тому, как такая птица не может подняться в небо, так и человек не способен достичь без книг «совершенна разума».
Грамоте учили по церковным книгам — Псалтыри, Часослову, Апостолу. Овладение чтением осложнялось тем, что в рукописных книгах не было знаков препинания, слова и предложения часто сливались. Сначала требовалось заучить на память азбуку с трудными названиями букв — «аз», «буки», «веди»... Одновременно дети учились выводить буквы писалом на бересте или на вощеных дощечках. Потом учили слоги: «веди»«аз» — «ва», «буки»«он» — «бо»... Затем ученик должен был усвоить титлы — надстрочные знаки в виде ломаной черты, которые ставились над сокращенными словами либо над буквами, имевшими цифровое значение. Справившись с этой премудростью и научившись читать отдельные фразы и молитвы, а также писать, дети завершали первый цикл своего обучения. На это уходило дватри года.
Примерно так начинала постигать грамоту детвора и в школах, открытых стараниями Евфросинии. Однако высокообразованная игуменья стремилась расширить рамки обычной программы. Кроме церковнославянского, юные полочане изучали греческий и латинский языки, получали знания по природоведению, риторике, медицине. Большое внимание уделялось истории. Ученики должны были хорошо знать родословную династии Рогволодовичей, важные события из прошлого Полоцкой земли и всего восточного славянства. Наверное, школа давала определенные знания и по всемирной истории.
В своей педагогической деятельности Евфросиния опиралась на мудрость народной дидактики: «На всяк же день учаше сестры своа: старыя же учаше тръпению и воздръжанию, юныя же учаше чистоте душевной и бестрастию телесному, говению образному, ступанию кротку, гласу смирену, слову благочестну, ядению и питию безмолвну, при старейших молчати, мудрейших послушати, къ старейшим покорением, къ точным <равным> и меншим любовь без лицемерна, мало вещати, а много разумети».
Автор «Жития» был младшим современником подвижни
91
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
цы, возможно, даже ее учеником. Приводимые им фрагменты наставлений Евфросинии, судя по всему, имеют реальную основу. Ученики и обитатели монастырей получали от игуменьи прекрасные уроки красноречия. «Се собрах вы, яко кокошь <наседка> птенца, под крыле свои и в паствину свою, яко овца, — обращается она к сестрам. — Да пасецеся въ заповедех божиих! Да и аз <я> веселым сердцем подвизаюся учити вас, видящи плоды ваша трудный и толико дождь проливаю къ вам, а нивы ваша въ едину меру стоят нерастуще, ни поступающе горе. А год приспевает свершению, и лопата на гумне лежить. Но боюся, егда будеть плен <плевела> въ вас. Подщитеся, чада моя, убежати того всего! Но сотворите ся пшеница и осмелитесь въ жерновах смирением...» Впечатляют богатая образность этого отрывка и её прозрачность, тесная связь метафор и сравнений с жизнью простого человека. Здесь, как и в других фрагментах «Жития», видна несомненная ораторская одаренность просветительницы.
Книжница Евфросиния не могла не обратить внимания на помещенный в «Изборнике» Святослава 1073 года трактат о поэтике «Об образех», где на примерах (в том числе из «Илиады» и «Одиссеи») объяснялось значение различных тропов — аллегорий, гипербол, метафор. С учениками полоцких школ, во всяком случае, с наиболее способными, проводились занятия и по поэтике.
Школы Евфросинии Полоцкой являлись передовыми для своего времени и по программе обучения, и по составу учеников, большинство которых были детьми простых горожан.
Сестрымонахини
Помощницами и опорою Евфросинии в ее многочисленных заботах и начинаниях стали ее сестры: родная Гордислава (в монашестве Евдокия) и двоюродная Звенислава (Евпраксия). Однако попали они в монастырские стены поразному.
Основав Спасскую обитель, молодая игуменья попросила отца прислать к ней сестру для обучения грамоте. Евфросиния «съ прилежанием учаше о спасении души, а она (Гордислава. — В. О.) съ прилежанием учашесь и приимаше, яко нива плодовита,
92
«ЯКО ЛУЧА СОЛНЕЧНАЯ...»
умякчивши сердце свое». Затем «Житие» сообщает, что игуменья тайно постригла сестру в монахини, вызвав этим великий гнев отца. «И узьярився на преподобную Ефросинию, сердцем горя. И приеха къ монастырю, глаголя: «Чадо мое милое, что се сотворила еси? Приложи сетование къ сетованию души моей, и печаль къ печали». Но найдя путь к сердцу сестры, просветительница сумела утешить Божьим словом и родителей.
Со Звениславою было иначе. Она пришла к сестре сама и «принесе всю свою утварь златую и порты <наряды> многоценный» — видимо, пожертвовала храму Спаса свое приданое. Евфросиния и Евпраксия были очень близки — «яко едина душа въ двою телесу».
Сестры оставались вместе всю дальнейшую жизнь. ЗвениславуЕвпраксию полоцкая игуменья избрала своей спутницей, отправляясь в конце земного пути в Иерусалим. Родной сестре Евдокии, покидая Полоцк, она повелела «дръжати и урядити... оба манастыря». После смерти Евфросинии Евдокия, вероятно, заняла место настоятельницы Спасской обители и продолжала просветительскую деятельность старшей сестры.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН