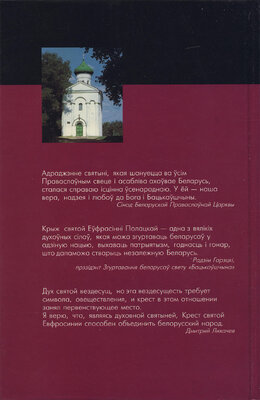Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны
Гісторыя Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай
Уладзімір Арлоў
Выдавец: Асар
Памер: 328с.
Мінск 1998
С именем преподобной Евфросинии навечно связано и создание полоцким мастером Лазарем Богшей знаменитого Креста — шедевра древнебелорусского ювелирного искусства, ко
103
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
торому предначертано было стать нашей национальной святыней. О загадочной и драматической судьбе Креста святой Евфросинии и подвижнических трудах по его восстановлению в наши дни пойдет речь в последующих главах книги. Пока же продолжим повествование о земном пути полоцкой игуменьи и признании ее святости.
О чем молчит «Житие»
Евфросиния, как и другие восточнославянские подвижники, никогда не теряла связи с народом, была его наставницей и судьей.
Созданное по канонам своего жанра «Житие» молчит о драматических событиях, происходивших в то время на земле наших предков. Но просветительница, несомненно, была их деятельной участницей и почти полстолетия существенно влияла на политику Полоцка.
Независимое Полоцкое княжество в XII веке вступило в закономерный процесс феодального дробления на уделы: Менский, Друцкий, Изяславский, Витебский, Логойский... В них правили сыновья Всеслава Брячиславича Чародея и их потомки, которые вели между собою упорную борьбу за полоцкий престол. Среди них выделялся менский князь Глеб Всеславич. Долгое время он довольно успешно воевал с Владимиром Мономахом, но все же был побежден и в 1119 году умер (видимо, был отравлен) в Киеве.
В юности Евфросиния стала свидетельницей похода на Полоцкую землю, организованного преемником Мономаха великим киевским князем Мстиславом. Тогда, в 1127 году, объединенные силы восьми князей до Полоцка не дошли, но полочане вынуждены были изгнать своего князя Давыда с сыновьями и принять, наверное, более угодного Киеву Бориса Всеславича. Два года спустя Рогволодовичи отказываются идти на половцев, и Мстислав отправляет непокорных князей в Византию.
Во время высылки Рогволодовичей игуменья Евфросинья оставалась, возможно, единственной представительницей полоцкой династии на родине. Киевские ставленники грабили страну, подрывая экономическую базу Полоцкой земли, ходили походами на ее данников, расправлялись со сторонниками отправ
104
«ЯКО ЛУЧА СОЛНЕЧНАЯ...»
ленных в Византию князей. Укрывшись за монастырскими стенами, просветительница была своеобразным знаменем борьбы полочан за независимость.
Трудно судить, принимала ли Евфросиния непосредственное участие в вечевых сходах, но ее воздействие на вече было очень значительно. Через него игуменья влияла не только на приглашение в Полоцк князей, но и на назначение епископов, ибо вече должно было одобрить предложенную киевским митрополитом кандидатуру.
Думается, именно с согласия Евфросинии, а может, и по ее совету в 1132 году жители Полоцка изгнали присланного из Киева Святополка Мстиславича и провозгласили своим князем Васильку Святославича из династии Рогволодовичей, который тайно возвратился из Византии или же какимто образом смог избежать высылки. «Полочане же рекше: «лишается нас» и выгнаша Святополка, а Василка посадиша Святославича», — сообщает об этих событиях летопись.
В качестве миротворицы могла выступить княжнаигуменья и в 1137 году, когда мимо Полоцка проходил с дружиной на Псков осужденный новгородцами на изгнание князь Всеволод Мстиславич, сын того самого Мстислава, который высылал Рогволодовичей в Византию. Полоцкий правитель Василька располагал достаточной силой, чтобы отомстить сыну за жестокость отца, но вместо этого великодушно проводил Всеволода через свои волости и поклялся забыть о давней вражде. Вряд ли без участия Евфросинии, стремившейся прекратить наследственную вражду Рогволодовичей и потомков Ярослава Мудрого, обошелся и брак дочери полоцкого князя Васильки и сына гостеприимно принятого им Всеволода.
Наделенная не только ясным умом, но и сильной волей и решительностью, Евфросиния имела большой вес в решении политических проблем и в дальнейшем. Она не могла стоять в стороне от событий 1151 года, когда полоцкое вече отказало в доверии князю РогволодуВасилию и пригласило из Менска Ростислава Глебовича. Через восемь лет полочане вновь приняли к себе Рогволода, начавшего борьбу с менскими Глебовичами. Об этом подробно повествует Киевская летопись. Мы узнаем, что в Полоцке «бысть мятеж велик... мнози бо хотяху Рогволода». В городе возник заговор против Ростислава. «Князе нашь, — писали полочане Рогволоду, — согрешили есмь к Богу
105
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
и к тебе, оже вестахом на тя без вины и жизнь твою всю разграбихом и твоея дружины, а самого емше выдахом тя Глебовичем на великую муку. Да еще ныне помянеши всего того, иже створихом своим безумием, и хрест к нам целуеши, то мы людие твое, а ты еси нашь князь, а Ростислава ти емше вдамы в руче <захватив, предадим тебе в руки>, а еже хощеши, то створиши ему...» Покушение на Ростислава назначили на день святого Петра, когда князя можно было вызвать на братчину у церкви (старой) Богородицы. Однако предупрежденный кемто князь приехал, надев под праздничную одежду кольчугу и взяв с собой большую охрану. На следующий день его сторонников избили на вече, а сам Ростислав с дружиною бежал и «многа зла створи волости Полотьской, воюя и скоты и челядь».
Авторитет, которым пользовалась в то время княжнаигуменья, позволяет причислить ее к возможным авторам письма князю РогволодуВасилию.
В тогдашней сложной политической ситуации Полоцк вначале вступает в союз со Смоленском, затем борется против недавних союзников с помощью Чернигова. Усобицы продолжаются с переменным успехом. Больших жертв стоила в 1162 году битва Рогволода с Володарем. Под 1167 годом летопись сообщает, что менскому князю Володарю удалось ненадолго захватить Полоцк.
Патриотка своей земли, Евфросиния не могла не принимать ее невзгод близко к сердцу. «Житие» говорит, что она «ни хотяше видети никого же которающася <враждующим>: ни князя со князем, ни бояри с боярином, ни служанина со служанином — но всех хотяше имети, яко едину душю».
В последние годы жизни просветительницы в Полоцке княжил Всеслав Василькович. Евфросиния сравнивала этого князя со своим знаменитым дедом, его тезкой. Легко догадаться, что сравнение было не в пользу Всеслава II. И все же ему, видимо, не без помощи княжныигуменьи удается притушить распри Рогволодовичей (в конце правления Всеслава Васильковича шесть полоцких князей участвовали в походе на Друцк, где сидел смоленский ставленник). Возможно, относительное спокойствие в Полоцкой земле также повлияло на решение Евфросинии совершить путешествие в Иерусалим.
Подвижница хорошо понимала, что затишье это — временное и на смену ему придут новые братоубийственные войны,
106
«ЯКО ЛУЧА СОЛНЕЧНАЯ...»
последствия которых могут быть катастрофическими. Мы уже отмечали тождественность идей знаменитой полочанки и автора «Слова о полку Игореве».
Ярослава все внуки и Всеслава!
Склоните стяги свои,
вложите в ножны свои мечи поврежденные, ибо лишились вы славы дедов.
Вы ведь своими крамолами начали наводить поганых на землю Русскую, на богатства Всеслава.
Изза усобицы ведь настало насилие от земли Половецкой!*
Между смертью просветительницы и рождением выдающегося произведения нашей древней литературы прошло около двадцати лет, но мы имеем полное право утверждать, что такие мысли могли принадлежать и Евфросинии.
Последняя дорога
На закате жизни Евфросиния решила совершить духовный подвиг паломничества в Святую Землю. Брат Вячеслав с другими родственниками и все жители Полоцка, собравшись в Спасском монастыре, просили игуменью не покидать их. Преподобная же утешила земляков, что поедет молиться за них и за родную землю. Как мы уже знаем, в те дни Евфросиния сделала Христовыми невестами двух своих племянниц — Ольгу и Кирианну.
Передав игуменство младшей сестре Евдокии, сама Евфросиния начала готовиться к отъезду. В те времена в далекие путешествия отправлялись обычно — чтобы избежать бездорожья — в начале зимы или ранним летом. Выехав из Полоцка вскоре после Рождества, весной можно было достичь границ Византии. Видимо, отпраздновав Рождество Христово, двинулись в дорогу и полоцкие паломники.
* Перевод Дмитрия Лихачева.
107
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
Евфросинию сопровождали двоюродная сестра Евпраксия и брат Давыд. Вначале путешественники, наверное, ехали по рекам на санях, а потом частью по суше, частью водным путем, преодолевая за день 3040 верст. Повсюду в восточнославянских княжествах известную полочанку ждал радушный прием. На своем пути она встретилась с византийским императором Мануилом Комнином, шедшим войною на венгров. Кесарь принял родственницу очень гостеприимно и «съ великою честью посла ю <ее> въ Царьград». Там паломники посетили собор св. Софии, приобрели золотое кадило, дорогие фимиамы и другие необходимые в Святых Местах предметы и, получив от патриарха благословение, поехали дальше.
Между прочим, встреча Евфросинии с императором Мануилом дает определенные основания поставить под сомнение принятую согласно «Житию» дату паломничества и смерти святой (1173). Упомянутый византийский кесарь последний раз воевал с венграми в 1167 году, причем выступил в поход на Пасху, 8 апреля. Примерно в то же время пределов его страны должны были достичь и полоцкие паломники.
Кроме того отметим, что племянниц Евфросинии постригал в монастырь епископ Дионисий, занявший полоцкую кафедру около 1166 года. На основании этих фактов церковный историк Лев Горошка, Алексей Мельников и другие исследователи предложили отказаться от общепринятой и вошедшей в некоторые энциклопедии даты и считать годом смерти святой Евфросинии 1167й. Именно эту, уточненную дату называет современная «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі».
В конце апреля игуменья и ее спутники прибыли к древним иерусалимским стенам. Как гласит «Житие», Евфросиния послала своего слугу Михаила к патриарху просить, чтобы ей отворили Христовы врата. По всей видимости, речь идет о Золотых вратах, через которые со стороны Елеонской горы Христос вошел в Иерусалим в Вербное воскресенье.
Во время паломничества преподобной княжныигуменьи Иерусалим принадлежал крестоносцам, а правил в нем король Амальрих I. Интересно, что монарх, по мнению некоторых историков, также был в родстве с Евфросинией — через жену французского короля Генриха I Анну, которая была дочерью Ярослава Мудрого, сына княгини Рогнеды Рогволодовны. Кроме то
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН