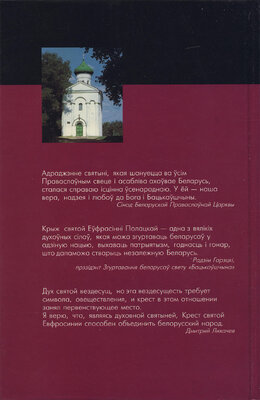Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны
Гісторыя Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай
Уладзімір Арлоў
Выдавец: Асар
Памер: 328с.
Мінск 1998
Повествуя об отъезде преподобной в последнее путешествие, «Житие» приводит также известия о пострижении Евфросинией в монастырь ее племянниц Ольги и Кирианны. Как и в случае с Гордиславой, это произошло против воли родителей. Узнав о намерении игуменьи, отец девушек, ее любимый брат Вячеслав пытался воззвать к милосердию: «Госпоже моя! Что ми хощеши сотворити? Два плача прилагаеши души моей: плача ся отхода твоего и сетуя чаду деля своею», но его просьбы были напрасны. Других сведений о племянницах Евфросинии не сохранилось, однако они как представительницы княжеской династии Рогволодовичей должны были играть в монастырской жизни не последнюю роль.
Не следует, как поступают некоторые, видеть в описанном выше поведении игуменьи жестокость. Подобные (может, и вправду не очень гуманные с нашей точки зрения) поступки диктовала Евфросинии забота о душах близких, о будущем своего дела.
Автор «Жития» утверждает, что святая имела такой дар от Бога: взглянув на когото, сразу могла увидеть, может ли этот человек быть избранником Божьим.
93
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
От упадка к возрождению
Основанный преподобной Евфросинией Спасский монастырь на протяжении столетий переживал и времена возвышения, и годы полного упадка и запустения. Надо скептически отнестись к словам отдельных русских авторов о том, что черницы покинули свой приют во время нашествия Батыя. Дымнокровавый след татарских орд остался в XIII веке только на самом юге белорусских земель. Вообще же Беларусь, в отличие от своих восточных соседей, татаромонгольского ига не знала. Более правдоподобно, что во время нашествия в полоцких монастырях спасались беглецы из других восточнославянских княжеств.
Тяжелые испытания наступили для СпасоЕвфросиниевского монастыря, когда Московия начала настойчивые попытки захватить белорусские земли, окончательно вошедшие в начале XIV века в состав Великого княжества Литовского. Это было мощное феодальное государство, ядром которого являлась Беларусь, а господствующей культурой — белорусская, причем белорусский язык без малого четыре столетия выполнял роль государственного .
Когда в 1563 году воинство Ивана Грозного шло на Полоцк, наслышанные о звериной жестокости московского царя монахини с плачем простились со Спасской обителью. Они уже не вернулись туда ни в годы царской оккупации, ни после изгнания московитов из Полоцка в 1579 году королем и великим князем литовским Стефаном Баторием, которого белорусы называли Степаном Батурой.
Почти все полоцкие монастыри, в их числе и Спасский, вместе с землями и другим имуществом Батура передал ордену иезуитов.
В 1654 году Полоцк вновь заняли русские войска. Спустя два года туда приехал царь Алексей Михайлович, который «ходил... в Спасской монастырь, что бывал девичей монастырь благоверной великой княжны Евфросинии Полоцкой... Того же месяца июля в 9 день... было священие церкви Преображение Спасово». По Андрусовскому миру 1667 года город был возвращен Речи Посполитой. Вернулись в монастырь и иезуиты, остававшиеся здесь хозяевами и после захвата Беларуси Россией в конце XVIII века, вплоть до их изгнания из Российской империи в 1820 году. При них на месте древнего монастырско
94
«ЯКО ЛУЧА СОЛНЕЧНАЯ...»
го здания был построен двухэтажный дом — летняя резиденция иезуитских генералов. До 1832 года обитель принадлежала католическому ордену пиаров, потом вначале монастырский собор, а вслед за ним и другие строения царские власти передали православным.
СпасоЕвфросиниевская обитель в 1840 году была восстановлена и по причине своей древности и значительности причислена к первоклассным российским монастырям. При ней начало действовать женское училище, многие выпускницы которого стали народными учительницами.
Закрытая безбожной властью в 1928 году (тогда в ней жило около 250 монахинь), СпасоЕвфросиниевская обитель возобновила свою жизнь в период немецкой оккупации. В послевоенное время расположенная вблизи воинская часть начала взимать с обитательниц монастыря... квартирную плату. Вскоре его вновь закрыли, и монахини (в 1953 году их было 54) вынуждены были выехать в Жировичи, что под Слонимом.
Сегодня древняя обитель переживает свое новое возрождение, начавшееся в 1989 году. Монастырь вновь стал местом паломничества верующих со всей Беларуси и ее близкого и дальнего зарубежья. Посетить основанный Евфросинией очаг христианской духовности считают своим долгом, бывая на родине, наши соотечественники из других стран. Значительные средства на восстановление монастыря пожертвовали активные члены Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» Анатолий Лукьянчик из США и сибирский предприниматель Анатолий Силивончик. Забегая вперед, отметим, что он же был в числе тех, кто сразу поддержал идею воссоздания Креста святой Евфросинии.
Взлет полоцкого зодчества
Политическая независимость Полоцкой державы способствовала возникновению в ней самобытной школы зодчества. Она складывалась на основе византийской архитектурной традиции, в соответствии с которой был возведен Софийский собор. Однако здесь эстетические идеалы византийцев получили своеобразное понимание и развитие, испытав и западноевропейские влияния.
95
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
В Полоцком княжестве начинаются поиски новых архитектурных форм, свидетельством чего стало строительство в Витебске церкви Благовещения, где идеи византийского крестовокупольного храма сочетаются с некоторыми чертами архитектуры Западной Европы. Отходом от прежних канонов отличались церковьусыпальница полоцких епископов, храмы Бельчицкого (Борисоглебского) монастыря, основанного в Полоцке на рубеже ХІХП веков.
В середине XII века окончательно сложилась полоцкая школа зодчества. Для нее была характерна кладка из плинфы (тонкого, хорошо обожженного кирпича) с так называемым «скрытым рядом», когда одни ряды плинфы выступали, другие были как бы спрятаны вглубь, а промежуток между ними заполнялся цемянкой — известковым раствором, куда добавляли толченный кирпич. Извне здания не штукатурили, и такая техника кладки создавала двухцветную «полосатую» гамму стены. Полоцкие мастера отходят от византийских крестовокупольных храмов с несколькими апсидами* и приближаются к созданию принципиально новых форм.
Наивысший взлет полоцкой архитектурной школы, связанный с творчеством зодчего Иоанна, приходится на годы деятельности Евфросинии, что, конечно, неслучайно.
Иоанн был монахом одного из местных монастырей. Этот наделенный самобытным талантом мастер оставил в Полоцке не менее трех храмов. Княжнаигуменья внимательно следила за его творчеством. Тем временем Спасская обитель пополнялась монахинями. Черницы приносили дары, светские лица тоже делали щедрые пожертвования. Тесная деревянная церковь уже с трудом вмещала всех приходящих на молитву. Замыслив строить для своего монастыря собор, Евфросиния, естественно, обратилась к Иоанну, который к тому времени воздвиг такие примечательные храмы, как церкви ПараскевыПятницы и Бориса и Глеба в Бельчицах.
«Бе муж Иоан, приставник над делатели церковными <руководитель артели мастеровкаменщиков>, — повествует «Житие». — Къ нему же многажды прихожаше, глаголила: «Иоане, востани поиди на дело вседръжителю Спасу!» И въ един от
*Апсида — полукруглая или многоугольная часть храма, которая выступает за его общие контуры и в которой помещается алтарь.
96
«ЯКО ЛУЧА СОЛНЕЧНАЯ...»
дний востав, Иоан прииде къ блаженой Евфросинии и рече: «Ты ли, госпоже, присылаеши и понужаеши мя на дело? Она же рече: «Ни». И пакы размысливши премудрая жена и рече ему: «Аще не аз тя возбуждаю, а кто тя взывает на таково дело, того послуша, и прилежно съ тщанием».
«И потом блаженая Ефросиниа заложи церковь камену святого Спаса. От начатка и устроена за 30 недель».
В конце работы у каменщиков, согласно «Житию», кончился кирпич и не было чем «верха окончати», но назавтра после молитв игуменьи мастера обнаружили «плиты въ пещи».
Известный русский историк Леонид Алексеев называет строительство Спасского собора «крупнейшим событием в полоцкой и во всей древнерусской архитектуре». Евфросиния же была не только заказчицей храма, но и советчицей, вдохновительницей Иоанна на творческий подвиг.
Возведенная за один строительный сезон Спасская (теперь ее часто и не совсем правильно называют СпасоЕвфросиниевской) церковь — вершина архитектурной мысли Полоцка. Это трехнефный шестистолпный крестовокупольный храм монастырского типа размером 8x12 метров. Центральный широкий неф* с востока завершает массивная полукруглая апсида, а боковые нефы — спрятанные в толще стены полукруглые ниши. Южный и северный фасады украшены пилястрами с полуколоннами. Они ритмически делят поверхность на два узких и два широких простенка с размещенными на двух уровнях полуциркульными окнами.
Храм имел позакомарное** покрытие основного объема и более низкого притвора. Барабан купола возвышался над сводами и опирался на кубический постамент. Важной чертой Спасского собора было то, что здесь впервые на территории Беларуси появились кокошники (мнимые закомары, имеющие декоративное значение). Закомары и кокошники были килеподобными, что еще больше подчеркивало стройность храма. Церковь завершал барабан с удлиненными окнами и шлемоподобным куполом. Внутри храма особенности композиции рождали иллюзию его громадной высоты. В западной стене, которая в
* Н е ф — удлиненная часть храма, ограниченная с двух или с одной стороны рядом колонн или столбов.
**3акомара — полукруглое или килеподобное завершение части здания, соответствующее форме внутреннего свода.
97
ЖИВОТВОРНЫЙ символ отчизны
два раза толще, чем северная и южная, идет ход на хоры, по обе стороны хоров — кельи Евфросинии (с южной стороны) и Евдокии (с северной). Здесь прошла значительная часть жизни просветительницы и ее сестры.
Иоанн поставил перед собой задачу создать композицию, устремленную ввысь, и блестяще справился с нею. Стоящая на берегу Полоты и прекрасно вписанная в ландшафт, Спасская церковь и теперь, после проведенной в XIX веке частичной перестройки, вызывает удивительно сильное впечатление завершенности и гармонии.
Для Евфросинии и ее современников каждый храм был образом и моделью Вселенной. В храмах воплощались идеалы красоты и совершенства. Думается, что чувства игуменьи, когда она впервые увидела новый собор без лесов, были созвучны чувствам Михаила Пселла, который в своей «Хронографии» писал о храмах: «Очей невозможно отвести не только от невыразимой красоты целого, из чудесных частей сплетенного, но и от каждой части в отдельности, и хотя от них можно получать наслаждение бесконечно, ни одной не удается налюбоваться вдоволь, ибо взгляд к себе притягивает каждая...»
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН