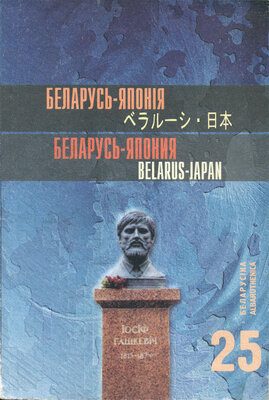Беларусь-Японія
Матэрыялы Другіх міжнар. чытанняў, прысвечаных памяці Іосіфа Гашкевіча
Выдавец: Беларускі кнігазбор
Памер: 400с.
Мінск 2003
Гуманизм и критика господствующего класса, к которому Толстой принадлежал по рождению, находили живой отклик в литературной группе «Сиракаба», которая сформировалась в 1910 г. и состояла из молодых аристократов. Эта небольшая группа мыслящих молодых людей сделала своей целью поиск смысла жизни и познание самого себя. Они провозглашали принцип: «Слушаться своей совести во всех мелочах жизни». Само название «Сиракаба» («Белая береза») ассоциируется с Россией и русской литературой, а одним из литературных вождей для них был Л. Толстой.
Японские же социалисты по разному относились к творчеству Толстого, но, пройдя через революционную борьбу и тюрьмы, оценили его книги так: «Автор сумел облечь свою беспощадную социальную критику в художественную форму и тем привлек внимание миллионов читателей к наболевшим проблемам современности».
Эстетическим мостом, соединяющим литературную жизнь России с культурой далекой Японии, можно назвать и творчество русского писателя Ивана Тургенева, которое в числе первых проникло в духовную жизнь японского народа и заявило о существовании неисчерпаемого мира русской словесности. Значение творчества И. Тургенева в духовной жизни Японии периода конца XIX начала XX в. велико. Японский литературовед Асия Нобукадзу писал: «Если говорить о влиянии на нас русской литературы, то эпоха Мэйдзи с полным правом может считаться эпохой Тургенева».
В чем же причина столь большой популярности Тургенева в Японии? Многие литераторы приходят к выводу, что не только новизна стиля и острота социальной и нравственной проблематики покорили японцев. Видимо, есть здесь нечто узнаваемое, близкое. Сознаваемая японцами духовная близость к русскому писателю, творческая манера и поэтика произведений отвечают их художественному и эстетическому вкусу. Это и облегчило восприятие его сочинений в Японии. Не зря французский писатель Поль Бурже высказал мысль о скрытой близости тургеневских произведений внутреннему духу буддизма в широком философском смысле. «Восточную черту» находит у Тургенева и японский литературовед Сато Сэйро. Он писал о том, что из всей русской словесности Тургенев наиболее близок ему и глубиной интеллекта, и искренним сочувствием к судьбе русского народа. Сато Сэйро считал, что способность проникать в душу каждой вещи, одухотворять каждый предмет берет начало в восточных религиях, в буддизме. Японский литературовед склонен обосновывать близость Тургенева восточному мировосприятию даже «восточной» кровью далеких предков Тургенева. По свидетельству японского критика, фамилия русского писателя имеет татарское происхождение и восходит к имени полководца Турга, жившего в древности.
Литературоведы находят много общего в творчестве японских писателей и Тургенева. Это и близость поэтики и эстетических представлений, перекличка идей, мотивов, образов, похожесть многих общих подходов к изображению природы и человека. При этом сохраняется сугубо национальный характер каждого из художников слова, воплощающих дух того народа, к которым они принадлежат.
Сравним творчество И. Тургенева с произведениями одного из национальных японских писателей Кавабата Ясунари. Самобытное понимание прекрасного, специфика художественного видения мира писателем своими корнями уходит к истокам древней национальной культуры, эстетические законы которой демонстрируют устойчивость во времени во много раз успешнее, чем это свойственно западной культуре.
Обратимся к одному из традиционных понятий японской культуры — понятию, которое подразумевает наличие в художественном произведении намека, недосказанности, тайны. Вероятно, это самое созвучное в поэтике обоих писателей.
В традиции всего японского искусства — оставлять мысль, откладывать кисть, обрывать сказанное едва ли не на самом эмоциональном взлете, открывая возможность читателю или зрителю соучаствовать в творчестве. Поэтому особое значение приобретает подтекст, обязывающий к чуткому прочтению произведения.
Обратимся к новелле Кавабаты «Танцовщица из Идзу». В ней трогательно и проникновенно повествуется о зарождении в душах людей первой в жизни любви. Растущая привязанность и тяготение героев друг к другу
скрыты за пределами слов, крайне сдержанных, лаконичных, исполненных внутреннего смысла. Неловкость, волнение, охватившие юную танцовщицу при виде студента, ставшего случайным попутчиком бродячей труппы актеров, выдают себя в напряженности ее позы, в чуть заметном дрожании руки. Сила, искренность не высказанного еще чувства тонко передаются благодаря той тональности, в которой описано грустное, молчаливое, а оттого напряженное расставание.
Умением писателя «сказать не говоря», молчанием, намеком передать глубину охватившего героя чувства, подтверждает преданность Кавабаты национальной традиции Японии, где незавершенность, незамкнутость были издавна требованием художественного вкуса, где невозможно было обойтись без душевной тонкости самого читателя, способного к быстрому настрою на воссоздаваемое художником чувство.
И. Тургенев выбирает похожие пути для передачи сложности душевных состояний. Тургеневские персонажи раскрывают свой внутренний мир лишь в самые острые, напряженные моменты их жизни. Сущность своей творческой манеры русский прозаик описал так: «Поэт должен быть психологом, но тайным; он должен знать и чувствовать корни явлений, но представлять только сами явления в их расцвете или увядании...»
И если мы говорим об особом значении подтекста в японской традиции, то Тургенев считал, что «лучшие люди, как и лучшие книги, — это те, в которых много читаешь между строк...». Иными словами, произведения русского писателя богаты тем, чем живет и дышит японское искусство, что превыше всего ценится в нем.
Лучшим подтверждением эстетических принципов писателя служат его собственные сочинения, изобилующие паузами, умолчаниями, ориентированные на чуткость, проницательность и тонкую восприимчивость читателя, которому один намек рисовал бы в уме целую картину переживаний.
Обратимся к повести «Вешние воды». Это даст нам возможность показать сложность творческих манер, близость эстетических посылок русского и японского художников слова. Так, в сцене объяснения Джеммы и Санина в саду через множество как бы вскользь брошенных намеков и выразительных деталей угадывается волнение героини, ее нетерпеливое желание услышать единственно нужные в эту минуту слова. Не менее выразительна в этом отношении и другая сцена, рисующая одну из первых встреч Джеммы и Санина, когда только начинают складываться их отношения и каждый из них, уже осознавая в глубине души зарождающееся чувство, еще боится обнаружить его, прячет в ненужных, лишних словах или молчании. Недосказанными и открытыми читательскому воображению остаются у Тургенева и отдельные сцены, прерванные потоком новых событий, слов, чувств на самом вздохе, в моменты наивысшего эмоционального напряжения.
Романы Тургенева изобилуют сценами, как бы незавершенными в своем развитии, полными значения, не раскрываемого до конца. Этот эстетический
прием — использование пауз и «пустых мест» в тексте можно сравнить с законами восточного искусства, ибо согласно восточной эстетике — пустота содержательна и значительна. В Японии говорят, что пустые места на свитке исполнены большего смысла, чем то, что начертала кисть.
Некоторая эскизность, контурность творческой манеры Тургенева и Кавабаты, пронизанность произведений обоих писателей ощущением неясности, неопределенности, потенциальная возможность продолжения, развития намеченных в них сюжетных линий и психологических положений и позволяет нам сопоставлять поэтические системы русского и японского художников слова и говорить об их эстетической и духовной близости.
Параллель, которую мы провели, обнаруживает наиболее очевидные моменты соприкосновения творческих миров очень разных и самобытных писателей, а также подтверждает то, что в мировой культуре нет замкнутых и непонятных другим культурам, одновременно помогает проникнуть в тайну притягательной силы тургеневских сочинений для японского читателя.
Еще один русский мастер слова — А. Чехов — стал любим и читаем многомиллионной аудиторией Японии. Но в восприятии японскими писателями творчества Чехова не было ученичества и подражания. Ведь новеллистическое искусство русского писателя согласовывалось с японской художественной традицией. Характер влияния Чехова на японскую литературу сравнивали с каплей дождя, незаметно впитываемой землей. Думается, что творчество Чехова было принято японцами не только по причине актуальности поднятых им проблем, но и родства чеховской поэтики и поэтики японского классического искусства. Думается, что восприятие Чехова в Японии необходимо рассматривать в контексте национальной художественной традиции.
В рассказах Чехова японцы находят привычную для себя повествовательную манеру письма. Это и лаконизм, и мягкие тона, тонкие нюансы, склонность русского писателя оставлять произведения недосказанными. Чехов говорил о том, что писатель не должен утопать в мелочах, он должен уметь жертвовать подробностями ради целого. «Краткость — сестра таланта», — любят все повторять сегодня слова Чехова. А ведь Япония — родина самого короткого жанра — хайку. Три строки классического поэтического произведения могут вмещать в себя целый мир.
Есть еще одна черта в творчестве Чехова, которая привлекает японцев. О ней очень хорошо сказал один из крупнейших писателей XX в. Сига Наоя, которого сравнивают с А. Чеховым. Он говорит о том, что Чехов не смотрит на своих персонажей злыми глазами, он нежен с ними, защищает их; во всем чувствуется тихая красота, которая и является результатом большого таланта Чехова и его любви к людям. Это очень близко японской классической традиции эпохи Хэйан — особое внимание к личности человека и естественности существования индивидуума.
Легко согласовывается с японской художественной традицией и то, что Чехова интересует часть вместо целого, изображение однократного. Так, в чеховском рассказе «Шуточка» писатель Ито Сэй находит что-то японское. В эссе «Очарование Чехова» он пишет о том, что очарование рассказа, да и очарование самого Чехова, в том, что писатель в естественной манере изображает человеческие радости и печали только наиболее существенным штрихом. То, что Чехов видит лиризм обыденности, роднит его с представителями японской классической литературы, с ее особым вниманием к повседневности, где в мелочи, как в капле росы, может отразиться целый мир.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН