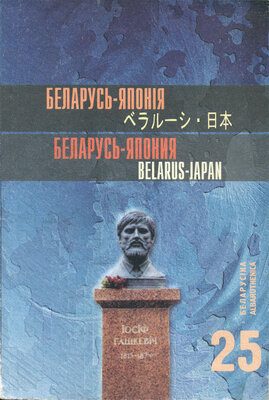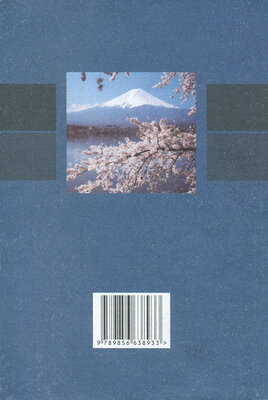Беларусь-Японія
Матэрыялы Другіх міжнар. чытанняў, прысвечаных памяці Іосіфа Гашкевіча
Выдавец: Беларускі кнігазбор
Памер: 400с.
Мінск 2003
В России были созданы многочисленные научные объединения, библиотеки и музеи, занимающиеся изучением Востока. Это прежде всего Императорская Академия наук в Петербурге с ее хранилищем восточных рукописей — Азиатским музеем, ставшим первым академическим востоковедческим центром в России. Крупными востоковедческими центрами России являлись Императорское Русское географическое общество, Императорское Русское археологическое общество, Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, Императорское общество востоковедения, Русский комитет для изучения
5Хачевская С. Две рукописные карты Сибири XVIII в. из коллекции Национальной библиотеки Варшавы // Русско-польские связи в области наук о Земле. М., 1975. С. 19.
Средней и Восточной Азии, Общество русских ориенталистов в Харбине и Петербурге. Большую роль в изучении Востока играли Императорская Публичная библиотека в Петербурге, Научное общество, Публичная библиотека и Кавказский музей в Тифлисе, Научное общество, Публичная библиотека и Музей в Ташкенте, Императорский Эрмитаж, Императорский российский исторический музей. В работе этих востоковедческих центров активное участие принимали востоковеды Беларуси Т. М. Августинович, К. И. Богданович, А. И. Вилькицкий, М. П. Вронченко, И. А. Гошкевич, Б. И. Дыбовский, Т. Зан, О. М. Ковалевский, К. А. Коссович, А. О. Мухлинский, В. Е. Недзвецкий, Э. К. Пекарский, О. И. Сенковский, Н. К. Судзиловский, Б. А. Тураев, И. Д. Черский, А. и И. Ходзько, А. Янушкевич.
В указанный период успешно функционировал один из востоковедческих центров Европы — Виленский университет. Это был крупный центр научной и общественной мысли Европы. В его стенах велась широкая научно-исследовательская работа, уровень читаемых лекций соответствовал развитию науки того времени. Именно в Виленском университете сформировались приоритеты в изучении Востока, которые в дальнейшем определили основные направления развития российского востоковедения. Выпускниками Виленского университета были такие крупнейшие европейские востоковеды, как Осип Михайлович Ковалевский и Осип Иванович Сенковский.
Всплеск изучения Японии приходится на середину XIX в., когда страна открылась для иностранных ученых. Изучение Японии стало складываться в комплексную науку — японоведение. Большой вклад в развитие этой науки внес наш соотечественник талантливый ученый Иосиф Антонович Гошкевич (1814-1875). Свои знания он пополнял в Русской духовной миссии в Пекине, где находился в течение десяти лет вместе с такими в будущем известными востоковедами, как П. Кафаров, В. Васильев, И. Захаров, А. Татаринов. При этой миссии состоял наш белорус, художник К. Корсалин (1809-1872).
И. Гошкевич был одним из первых русских натуралистов, собравшим большую коллекцию флоры и фауны Дальнего Востока. Он изучал распространение буддизма в этом регионе. Кстати, сделаю здесь отступление, автор данной статьи как участник экспедиции по местам жизни и деятельности белорусских востоковедов посетил летом 2002 г. Обо — священный знак в Селенгинской Даурии на границе с Монголией (снимок на вклейке). И. А. Гошкевич, проезжая у этого священного знака, останавливался и почтительно преподносил дары духу долины. Он знал, что если этого не сделать, удача отвернется от него...
В 1855 г. был подписан первый российско-японский договор. В подготовке договора как переводчик и востоковед активное участие принимал И. Гошкевич. Составленный им совместно с японским исследователем
Татибана Косаем в 1857 г. «Японско-русский словарь» был отмечен медалью Петербургской Академии наук и удостоен престижной Демидовской премии. В 1858 г. И. Гошкевич был назначен первым российским консулом в Японии. Его рекомендовал вице-адмирал Е. В. Путятин, подписавший русско-японский договор.
Е. В. Путятин рекомендовал правительству подобрать для включения в штат консульства высокообразованных молодых людей, способных оказать японцам помощь в военном деле, судостроении, навигации, изучении астрономии, математики, медицины и русского языка. В депеше, направленной из Шанхая в 1857 г. министру иностранных дел России А. М. Горчакову, он указывает на то, что «японцы, по свойственной им любознательности и сметливости, готовы воспользоваться европейской образованностью, в особенности усвоить себе новейшие усовершенствования военного и морского искусства и могут скоро сделаться для нас полезными или вредными соседями»6. Е. В. Путятин считал важным, «не упуская времени, приобрести доверие этого народа... Лучшим к тому средством послужило бы включение в состав отправляемой в Японию миссии нескольких лиц, сведущих и способных в тех отраслях наук, которые наиболее там ценятся» 7. Е. В. Путятин не скрывал при этом, что принимает живое участие в судьбе «имеющего много добрых качеств» японского народа и желает установления наилучших отношений России со столь замечательным государством.
Клипер «Джигит» 5 ноября 1858 г. доставил в Хакодате И. А. Гошкевича с женой и сыном, секретаря В. Д. Овандера, морского офицера — лейтенанта П. Н. Назимова, старшего врача М. П. Альбрехта, священника-протоиерея В. Е. Махова и дьякона И. Махова (всего 15 человек). В составе консульства были юнги-кантонисты А. Малендро, А. Юганов и Ф. Карлионин в качестве учеников, а затем и переводчиков с японского языка.
Русское консульство в Хакодате выполняло функции дипломатического представительства и должно было проводить в жизнь политику России в отношении Японии, защищать интересы русских подданных и полученные по Ансейским договорам права и преимущества во всех открытых портах, добиваться новых привилегий на основе статьи о наиболее благоприятствуемой нации. Консулу вменялось в обязанность заключать по поручению правительства конвенции, вести переговоры о Южном Сахалине, а также собирать сведения об экономическом, политическом положении, государственном устройстве, внешних отношениях Японии, добиваться расширения русско-японской торговли.
‘ХохловА. Н. Подготовка русских переводчиков-японистов в Японии и деятельность И. Д. Касаткина // Восток. 1994. № 5. С. 65.
’Там же.
Консульству и всем русским в Японии вменялось в обязанность строго соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела страны: «Мы желаем единственно упрочения и распространения нашей торговли с Японией. Всякие другие виды, всякая мысль о вмешательстве во внутренние дела чужды нашей политике. Старайтесь убедить в том японское правительство и наблюдайте, чтобы внушения не дали ему превратного понятия о наших намерениях»8.
Существенным компонентом плодотворной деятельности Российского консульства стало изучение его сотрудниками японского языка. На первых порах деятельности консульства проблема овладения японским языком отчасти разрешалась знанием китайского языка. Им прекрасно владел И. Гошкевич. Китайский язык знал М. Ф. Цивильков, воспитанник Петербургского университета, назначенный на должное гь секретаря консульства в Хакодате в 1860 г. Под руководством И. Гошкевича сотрудники консульства в сравнительно короткий срок сумели преодолеть языковой барьер. И. Гошкевич в 1859 г. сообщал о первых шагах в изучении японского языка врача М. П. Альбрехта генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву: «Так как доктор Альбрехт еще не довольно свободно объясняется по-японски, особенно с простым народом, то я каждое утро провожу с ним в принятии больных»9.
Консулу И. А. Гошкевичу рекомендовалось поощрять изучение японского языка сотрудниками консульства, что не только облегчало бы им «исполнение служебных обязанностей», но и «сблизило бы их с коренными жителями». В инструкции, данной морскому офицеру П. Н. Назимову, предписывалось «сообщать японцам полезные сведения» по астрономии, мореходству и кораблестроительной технике, также говорилось о необходимости изучения японского языка. С затруднениями, связанными с изучением японского языка, столкнулся и капитан-лейтенант П. М. Костерев, прибывший в Хакодате в 1862 г. В рапорте в Морское министерство он отмечал: «По части передачи сведений японцам по морской части я, несмотря на все свое желание и старание, пока не мог иметь успеха. Причина тому главная та, что я не мог свободно объясняться по-японски...»10 В дальнейшем, убедившись в полезных услугах российского морского офицера, стремившегося полно передать все свои знания японским ученикам, японские власти пригласили его прочитать курс в морском училище в Хакодате. Русский морской офицер обучал японцев основам астрономии, мореплавания, кораблестроения, артиллерии и
’Файнбсрг Э. Я. И. А. Гошкевич первый русский консул в Японии (1858-1865) // Историко-филологические исследования. М., 1967. С. 506.
’Хохлов А. Н. Подготовка русских переводчиков-японистов в Японии и деятельность И. Д. Касаткина. С. 66.
'“Там же.
фортификации. П. М. Костерев писал: «Из числа учеников пять ежедневно занимаются у меня артиллериею и морскою тактикою»11. На фортах хакодатского порта была установлена батарея из пушек фрегата «Диана» [...]
Серьезных успехов в изучении японского языка добились представители русского православного духовенства. Особого успеха добился И. Д. Касаткин. После возвращения на родину в 1865 г. И. А. Гошкевич писал о нем: «Иеромонах Николай — один из деятельнейших членов нашего консульства. В короткое время он изучил японский язык до такой степени, что свободно объясняется, не нуждаясь, подобно другим, в пособии переводчика. Это обстоятельство в связи с его уживчивым характером чрезвычайно сблизило его с японцами и доставило ему многих друзей»12.
В Японии И. А. Гошкевич заслужил уважение своим дипломатическим тактом и уважительным отношением к японскому народу. «Беловолосый консул», как его называли в Хакодате, соблюдал местные обычаи, уважал национальное достоинство японцев и оказывал им посильную помощь. Русский госпиталь ежегодно принимал до 100 больных. Русские врачи бесплатно посещали больных на дому. Японские врачи практиковали в госпитале, изучали хирургию. В консульской школе обучалось до десяти японских мальчиков. В 1861 г. дьякон Иван Махов составил и напечатал в Хакодате «Русскую азбуку» («Россия но ироха»), ею пользовались также в Нагасаки, где в русской школе обучалось 40 мальчиков.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН