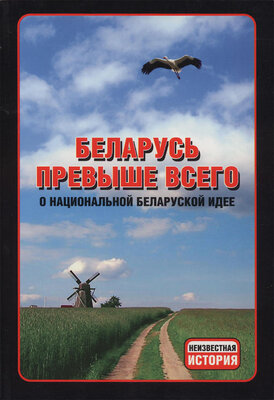Беларусь превыше всего!
(О национальной беларуской идее)
Анатоль Тарас
Памер: 240с.
Смаленск 2011
* Акудов1ч В. Мова // Акудов1ч В. Дыялоп з Богам. Мшск, 2006.
ление в Минск (с точки зрения «обеспечения») было достаточно привлекательным — после Москвы, Ленинграда и Киева. Свою роль в превращении Беларуси в плавильный тигель советской нации сыграли и ее относительно небольшие размеры, и нахождение на «переднем крае советской родины», и урбанизация.
Чем крупнее был город, тем меньше использовался в ежедневных сношениях людей беларуский язык. Отсюда отношение к нему как к крестьянскому.
Мигранты привозили свою культуру, отказаться от которой в пользу беларуской было бы возможно, если бы не их перевес в социальном положении, и так беларуская культура постепенно теряла свою роль. С другой стороны, разве можно рассчитывать на то, что иноземцы бросятся восстанавливать еще и культурные руины на чужой им земле?
Преобразования одновременно закреплялись в физическом пространстве, создавались новые символы и мифы советской Беларуси — прежде всего это «республика-партизанка» с многочисленными памятниками, а также «сборочный цех СССР» с фабриками и заводами.
Перестройка только на короткое время нарушила привычный социальный порядок, объединив в отходе от «советскости» национальное с демократическим. Игорь Бобков написал:
«После 1991 года беларуская идентичность получила статус исключения или отдельного случая. Наличие независимого государства, с одной стороны, не позволяло декларировать ее полное отсутствие, с другой — беларуская действительность ничем не напоминала действительность современной культурно гомогенной нации с присущим ей определенным набором мифов, ценностей и стереотипов, которые обычно и создают поле национальной идентичности»*.
Но то ли не повезло, то ли не хватило времени, национальный проект остался мечтой, а личные пути граждан опять разошлись с путем Беларуси. Энтузиазм быстро исчез, и прошлое (привычка к «проживанию» в Беларуси) потянуло назад. Ведь остались тракторы «Беларусь» и автомобили «Белаз», которые и сегодня удачно соревнуются с зубрами и аистами относительно своей роли в «воображении» Беларуси.
* И. Бобков. Генеалогия беларуской идеи.
Поэтому отличительной чертой беларуского проекта остается то, что история (социальная история — в смысле развертывания во времени социальных практик, соединяющих слова и вещи в формировании социального пространства) почти не имеет своего объективированного состояния. Несоветские беларуские идеи и символы существуют либо в сознании немногочисленных носителей, либо в текстах, строящих описанный Валентином Акудовичем «архипелаг Беларусь». Акудович пишет:
«Начиная с «Мужицкой правды» Константина Калиновского и виленской «Нашей Нивы» (начала XX века), все беларуские издания прямо или косвенно исполняли роль отсутствующих общественно-политических институтов, которые бы могли решать соответствующие нужды беларуской Беларуси».
Этот факт находит отражение в том, что историческое действие сталкивается (всякое действие ради строительства нации априори историческое), во-первых, с враждебной действительностью (что не способствует закреплению идей в пространстве), а во-вторых, с привычными социальными практиками, которые превращают «беларускость» в своеобразное культурное гетто*.
Кстати, суть гетто заключается не столько в ограничении пространства, сколько в принципе жизни в нем. Смысл жизни в гетто заключается в том, чтобы только жить, то есть сохранять собственную жизнь. Действие делается самодостаточным, оно никак не касается внешнего окружения.
Но то, что плохо лежит, всегда кто-то поднимет.
Новейшая программа нациотворения
Ряд исследователей уже отметил изменения в политике властей, связанные с созданием идеологии беларуского государства. Но, полагаю, дело не столько в трансформации политической сферы, сколько вообще в создании нации в условиях информационного общества.
Это не национальный проект как таковой, ибо проект предусматривает какое-то представление о будущем. Скорее это про-
* «Как вернуться людям на Беларусь? По проспекту Франциска Скорины (теперь уже Независимости — Авт.) не пройти к храму и к Беларуси, если он по-прежнему ведет от памятника Ленину через Советский район в Первомайский, постепенно переходя в Московское шоссе» — В.В. Мацкевич. «Беларусь вопреки очевидности».
ПО
грамма, которая строится на определенных принципах действия, что позволяет оперативно реагировать на те или другие вызовы времени и включать в себя или отбрасывать различные содержания. Проект основывается на прошлом и направлен в будущее, программа же ориентирована только на современность.
Двигателем этой программы является эффект «делегирования и политического фетишизма», когда одно лицо, получив полномочия от множества лиц, основывает или создает группу.
Так происходит в разных политических системах, построенных на принципе представительства. Существенное отличие беларуской системы состоит в том, что постепенно создавалась монополия на политическое представительство беларуского народа вообще. Иначе говоря, одно доверенное лицо представляет весь беларуский народ в целом.
Эволюцию системы можно проследить по шагам. Первоначальное представительство народа президентом; далее перехват функций представительства в органах высшей власти (парламент, суд), в результате чего те вынуждены представлять народ только через президента и с его разрешения. Наконец, дело дошло до различных «слагаемых» народа — профессиональных союзов, ассоциаций национальных меньшинств, творческих объединений и т.д. В этом смысле становятся понятными запреты на использование слов «беларуский» и «Беларусь» в названиях газет и организаций, а также переименование улиц, перенос государственных праздников, замена государственной символики.
Здесь мы сталкиваемся с парадоксом: узурпатор тем надежнее защищен от обвинений во лжи, чем меньше численно его организация; отсутствие же реальных разоблачений свидетельствует о полном отсутствии такой организации. Что можно противопоставить такому человеку? Можно публично протестовать, можно начинать собирать подписи под петицией.
Последнее, естественно, и делается, но делается только в заранее заданных условиях и только в качестве частной инициативы, поскольку нельзя создать новую организацию.
Слагаемыми этой стратегии являются:
1. Отождествление с группой.
Для того, чтобы иметь возможность отождествить себя с группой и сказать: «Я есть группа», «Я существую, значит, группа существует», доверенное лицо должно каким-то образом раство
риться в группе, отказаться от своей личности в пользу группы, вслух и торжественно заявить о себе: «Я существую только благодаря группе». Узурпация, которая осуществляется доверенным лицом, по необходимости скромна и имеет своей предпосылкой скромность.
2. Соучастие в незнании.
Осуществление символической власти основывается на ее молчаливом признании со стороны подчиненных.
Символическая власть есть власть, которая имеет своей предпосылкой признание, то есть незнание факта творимого ею насилия. Таким образом, символическое насилие, которое осуществляется служителем культа, возможно только при каком-то соучастии тех, кто испытывает на себе это насилие*.
3. В свою очередь для этого необходимо уверить других в своей необходимости. Отсюда и возникает дискурс «беспомощности» народа и постоянной заботы о «простом человеке», а также дискурс многочисленных трудностей и их преодоления, окрашенный в милитаристскую риторику типа «битвы за урожай». Таким образом, доверенное лицо — это тот, кто возлагает на себя священные неразрешимые задачи.
4. Эксплуатация эффекта оракула.
Редко бывает так, что если политик заявляет: «народ, народные массы», он не использует эффект оракула, то есть трюк. Смысл трюка — в одновременном продуцировании высказывания и его расшифровке, в создании впечатления, что «я — это другой», что представитель, будучи всего лишь заместителем народа, действительно есть народ, а значит все, что он говорит, это — сама правда и сама народная жизнь.
В данной связи заслуживают серьезного лингвистического анализа та двойная игра и те риторические приемы, в которых проявляется структурное лицемерие уполномоченных представителей, и в частности, их постоянные переходы от «мы» к «я».
Указанная программа нациотворения во многом похожа на советскую. В первую очередь это объясняется тем, что она стро
* Индивиды, помещенные в изолированное и безгласное состояние, которые не имеют ни способностей, ни власти, чтобы заставить слушать себя и быть услышанными, оказываются перед выбором: либо молчать, либо доверить другим право говорить от своего имени. Это замечание прямо касается популярных теперь разговоров, почему люди голосуют за Лукашенко.
ится на привычках жить по-советски, точнее, жить в советском физическом и символическом пространстве. Соответственно этой программе, не надо ничего менять, надо только добавить новые смыслы к существующим привычкам. Даже референдум о двуязычии только закрепил эти привычки, ведь если относиться к его результатам серьезно, надо было перевести все телевизионные передачи в режим субтитров, как это делается в двуязычных странах — один язык слышат, другой — читают.
Беларусом, как и советским человеком, может быть любой, кто принадлежит к «прогрессивному человечеству». Беларусь — это СССР в миниатюре, остров спокойствия и благополучия в море кризисов, происходящих в «братских» странах.
В отличие от символов-идей, новейшие символы — это символы-вещи: тракторы, цимбалы, предприятия типа «Беларуськалий». Их очевидность и данность скрывают пустоту смыслов. В зависимости от текущего момента объяснение смысла можно мгновенно заменить совсем другим, но символ-вещь так и останется символом-вещью.
Программа предлагает и практики. Это послушный гражданин, который исполняет все требования анонимной власти — подобно пассажиру в купе поезда, который ни с кем не разговаривает, никому не доверяет и всегда закрыт на все замки. И также это потребитель, который покупает беларуское, например, «автономный пожарный сигнализатор»*.
Все то, что каким-то образом позволяет очертить или ограничить эту программу, безжалостно отбрасывается — язык, так как он чересчур локален; продолжительная история, ибо она связывает руки; Россия, ибо сегодня она одна, а завтра другая...
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН