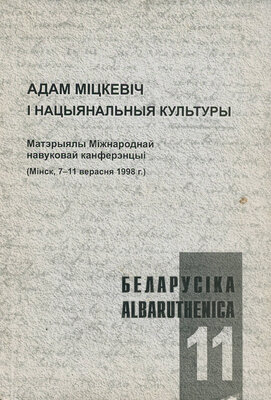Адам Міцкевіч і нацыянальныя культуры: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 7-11 верасня 1998 г.)
Выдавец: Беларускі кнігазбор
Памер: 448с.
Мінск 1998
Отношенне к Польше — лншь составляюіцее обшей познцнн Пушкнна, в тот пернод не только выступавшего как государственный поэт, но н оіцуіцавшего себя как член государственного обіцества. В этой связн уместно прнвестн следуютее свндетельство современннка: “В Росснн все те, кто чнтают, ненавндят власть... От Пушкпна — велнчайшей славы Росснн — одно время отвернулнсь за прнветствне, обраіценное нм к Ннколаю после прекрашення холеры, н за два полнтнческнх стнхотворення. Гоголь, кумнр русскнх чнтателей, мгновенно возбуднл к себе глубочайшее презренне своей раболепной брошюрой” 13.
Реакцня Пушкнна на польское восстанне была тнпнчной реакцней представнтеля государственного обіцества. В лнчном же плане он сохранял теплые чувства, которые пнтал к Мнцкевнчу. В этом отношеннн показательны
12 Нс подобно лн н отношсннс П. А. Вязсмского к антнпольскому стнхотворснню Пушкнна “Клсвстннкам Росснн”? Н нс тот жс прнсм умолчання нспользовал он, довсрнв свон мыслн о подобного рода стахотворчсствс лншь запнсной кннжкс? “Зачсм псрскладывать в стнхн то, что очснь кстатн в полнтнчсской газстс?” — отмсчаст он 14 сснтября 1831 г. н далсс нс бсз нроннн замсчаст: “Для мсня назначсннс хорошсго губсрнатора в Рязань нлн Вологду гораздо болсс прсдмст для поэзнн, нсжслн во взятнн Варшавы” (Пнсьма Пушкнна к Е. М. Хнтрово. Л., 1927. С. 291, 292). Еслн здссь выражсно эстстнчсскос отношсннс к этнм стнхам (пушкннскос “цсль поэзнн — поэзня” в равной стспснн блнзко м Вязсмскому), то позднсс Пстр Андрссвнч, столь блнзко знавшнй Пушкнна, отмстнл нх органнчную связь с воззрсннямв поэта: “Этн стнхн — нс торжсствснная ода на случай: онн нзлвяннс чувств задушсвных н мнсннй н убсждсннй, глубоко вкорснснных” (Русскнй архнв. 1879. Кн. 2. С. 252). Впрочсм, свос лнчнос отношсннс к “польскнм событням” (которос полностью совпадаст с выражснным нм жс публнчно в полнтнчсскнх стнхах) сам Пушкнн запсчатлсл в пнсьмах (1831) к A. О. Россст н П. А. Вязсмскому.
От вас узііал я плеіі Варшавы.
Вы былв вестпнцею славы Н вдохвовеііьем для мепя.
("Нз запчскн к A. О. Россет ")
(Пушкнн A. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 2. С. 608). В пнсьмс к П. А. Вязсмскому по поводу восстання: “...нх надобно задушнть, наша мсдлнтсльность мучнтсльна” (там жс. 1962. Т. 10. С. 34).
13 Гсрцсн А. й. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 220.
34
полные тревогн за судьбу польского поэта строкн нз пушкннского пнсьма к Е. М. Хнтрово: “В начале восстання он был в Рнме, боюсь, не прнехал лн он в Варшаву, чтобы прнсутствовать прн последннх судорогах своего отечества” 14.
Глубокое почнтанне поэтнческого дара Мнцкевнча было прнсуіце Пушкнну постоянно. Об этом, в частностн, свндетельствуют не только его переводы (вступленне к “Конраду Валленроду”, “Будрыс н его сыновья”, “Воевода”), но н упомннання его нменн н твореннй в свонх пронзведеннях (“Сонет”, где нмя Мнцкевнча ставнтся в однн ряд с Данте, Петраркой, Шекспнром, Камоэнсом, Вордсвортом; “Дубровскнй”, “Отрывкн нз путешествня Онегнна”, прнмечання к “Медному всадннку” н “Песням западных н южных славян”).
Реакцню на польское восстанне представнтелей гражданского обіцества отражают ссыльные декабрнсты: А. й. Одоевскнй (поэтнческне творення “Славянскне девы”, “Прн нзвестнн о польской революцнн”) н М. С. Луннн 15, а также — в следуюіцем поколеннн — А. Н. Герцен, который в 1851 г. вспомннал: “Когда вспыхнула в Варшаве революцня 1830 года, русскнй народ не обнаружнл нн малейшей вражды протнв ослушннков волн царской. Молодежь всем сердцем сочувствовала полякам. Я помню, с какнм нетерпеннем ждалн мы нзвестня нз Варшавы: мы плакалн, как детн, прн вестн о помннках, справленных в столнце Польшн по нашнм петербургскнм мученнкам. Сочувствне к полякам подвергало нас жестокнм наказанням, — поневоле надобно было скрывать его в сердце н молчать” 16. Это умолчанне — уже не лнтературный прнем, а свндетельство росснйского самовластня н внутреннего сопротнвлення ему постоянно нскореняемого н самовозрождаюіцегося гражданского обідества: тяжкое росснйское наследне, тягостная росснйская траднцня — наше давнее н недавнее вчера, наше тяжелое, но внушаюіцее оптнмнзм сегодня.
Свойственное государственному обшеству ндеологнзнрованное — велнкодержавное, узкоконфесснональное, нацнонально ограннченное (н поэтому отграннченное от человеческого уннверсума), деперсоналнзнрованное — мышленне, “заземленное” офнцнально прнзнанной нсторнографней н “прнземленное” конкретностью внутрнполнтнческнх целей н геополнтнческнх претензнй властн, не только контрастнрует с уннверсальной открытостью тнпа мышлення, который свойственен обіцеству гражданскому. Само оіцуіценне контраста между застывшнм “свонм” н новым “чужнм” уже самой своей новнзной влечет ограннченных н отграннченных собствен
14 Пушкнн A. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 10. С. 335.
15 См.: Нзбранныс соцнальнополнтнчс\350 фнлософскнс пронзвсдсння дскабрнстов. М., 1951. Т. 3.
16 Гсрцсн A. Н. Нзбранныс фнлософскнс пронзвсдсння. М., 1948. Т. 2. С. 140.
35
ной многовековой траднцней подданных (н преданных) государственной властн к этому “чужому” сугубо ментально (столь прнсуіцее людям любопытство н любознательность). У способных же к самостоятельному мышленню здесь помнмо поверхностного влечення к внешннм ііроявленням “чужого” н связанной с этнм моды на “чужое” появляется глубннное осознанне внутренней несвободы прнвычного “своего” н внутренней свободы нового “чужого”. А это уже означает начало процесса персоналнзацнн, появлення лнчностного начала, рожденне ннднвндуума в доселе деперсоналнзнрованном ммроошуіценнн, знаменуя зачаткн нового — гражданского — обіцества в недрах траднцнонного государственного.
Так было в Московском государстве XVII в., когда параллельно острым полнтнческнм н конфесснональным конфлнктам с Речью Посполнтой н вопрекн нм русская культура — высокая н массовая — открылась навстречу чужой, но колорнтнейшей для русского воспрнятня, а поэтому прнтягательной культуры “латннства” в его польском варманте. Осмысленне же внутренней “ннаковостн” этой новнзны, ее мнровоззренческой сутн порождало в познакмцей ее русской среде снлу прнтяження к нным акснологнческнм орнентнрам, которые былн созданы “латннскнм” Западом в эпоху Возрожденмя (вне н наднацнональные — обшечеловеческне — ценностн, а в связн с этнм обрашенность к обшехрнстнанскнм ндеалам вне н вопрекн ннстнтуцнонально расколовшейся Церквн; персоналнзм н прнмат лнчностн по отношенню к государству co всемн вытекаюшнмн отсюда последствнямн обіцественной, культурной н художественной деятельностн). Следствнем такого “броження умов” было появленне в русском самосознаннн лнчностного самоошутення, ннтеллектуальной крнтнчностн мышлення, устремленностн к познанню доселе внешнего (“латннского”) мнра. Этот “внутренннй” — духовный — процесс нарастал благодаря тем “внешннм” факторам, которые былн связаны с реформамн Петра I н эпохой Просветення, расцветшей в Росснн времен Екатернны П.
Средн русскнх друзей н знакомых Мнцкевнча — наследннков н носнтелей этой обновленной русскостн — былн как поборннкн ее эволюцнонного развнтня в обшеевропейском русле цнвнлнзацнн, но с особым учетом нацнонального начала, так н сторонннкн дальнейшей раднкальной модерннзацнн в духе государственнополнтнческнх н соцнальноэкономнческнх доктрнн современного Запада. Эта полнфоннчность понсков уже сама по себе была свндетельством новой стаднн развнтня русской духовной жнзнн, ее отторженной от собственного “внзантнннзма” “европейскостн”. Внутреннее же расслоенне обіцества на гражданское н государственное предопределялось не столько самнмн направленнямн русской мыслн “самнмн по себе”, сколько отношеннем к государственной властм н поннманнем ее ролн в жнзнн обшества н лнчностн.
36
В атмосфере внутрнросснйскнх духовных понсков н связанных с ннмн споров уннверсальная открытость мышлення Мнцкевнча, шнрота его разомкнутого на многонацнональный мнр кругозора, столь свойственная его ннднвндуальностн одухотворенная проннкновенность высказывання правд, открываюшнхся взору поэта с высот нсторнософского воспрнятня (где нацнональное неотрывно от всечеловеческого) — все это наряду с ярко выраженным нацнональным даром художественной новнзны влекло к нему русскнх нскателей современной русскостн. He здесь лн прнчнна его необычной прнтягательностн (о чем сохраннлось немало свндетельств современннков, в том чнсле н Пушкнна)? He здесь лн н феномен теплого прннятня его, готовного поннмання, сердечных снмпатнй как в среде зарождаюіцегося русского славянофнльства, так н западннчества, которые тогда еіце не былн резко днфференцнрованы?
Это тяготенне русскнх к Мнцкевнчу особенно феноменально в сопоставленнн с отношеннем к нему поляков. Ннкогда — нн до прнезда в Россню, нн в эмнграцнн — Мнцкевнч не пользовался всеобіцнм прнзнаннем н любовью свонх соплеменннков, которые нзначально в снлу эстетнческнх н ндейных, а позднее релнглозных н полнтнческнх нсканнй н убежденнй поэта разделялнсь (н порой весьма резко) в его оценках н в самом отношеннн как к его творчеству, его деятельностн, жнзнн, так н к самой его лнчностн. Для русскнх же он — человек нсторнософского тнпа мышлення н одновременно человек co стороны, а прн этом — ярко выраженная лнчность, не скованная как стереотнпамн русского государственного обіцества, так н просвеіценного космополнтнзма, нацнональный по духу поэт, а одновременно европейскнй по складу ума ннтеллектуал — был своего рода посредннком в нх собственном обмене мыслямн н арбнтром в нх ндейных спорах.
Он вдохновсн был свышс Н свысока взнрал на жнзнь. 17 (A. С. Пушкйн. "Он между намй жйл... ")
В этнх строках стнхотвореннявоспомянання н — есть основання полагать 18 — стнхотворенняответа на мнцкевнчевское “Русскнм друзьям” Пушкнн поэтнческой метафорой “высоты” проннцательно высветнл н проннкновенно охарактернзовал склад ума польского пннталюбомудра. Его ндея межнацнонального всеедннства, а в его рамках — славянской взанмностн — знждмлась не на велнкодержавнополнтнческом обьеднненнн н последуюіцем подчнненнн родственных народов еднной воле самодержца Росснйской нмпернн (концепцня русскнх н частн зарубежных славянофн
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН