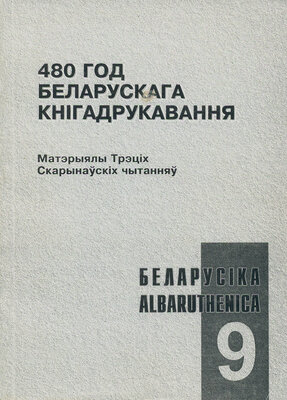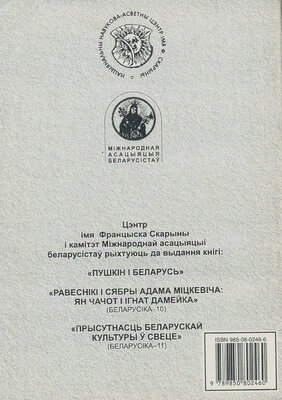480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 272с.
Мінск 1998
25 Male Е. L’art rcligieux du ХПс siecle on France. Paris, 1922. P. 168-175; Taylor M. D. The prophetic scenes in the Tree of Jesse at Orvicto // The Art Bulletin. 1972. Vol. LIV. P. 403 -417; idem. A Historiatcd Tree of Jesse // Dumbarton Oaks Papers. 1980-1981. Vol. 34-35. P. 125-176; Milanovic V. The tree of Jesse in the Byzantine Mural Painting of the Thirteenth and Fourteenth Centuries: A Contribution to the Research of the Theme // Zograph. Beograd, 1989. N 20. P. 48-59.
118
датируемой около 1200 г. 26 Речь может идти об упрощении образца, вероятнее всего немецкого происхождения. Это объясняет и отмеченное в литературе сходство с гравюрами “Хроники” Г. Шеделя (1493) и чешской Библии (1506), хотя последние явно не принадлежат к числу непосредственных ее источников.
На развороте перед началом предисловия и в начале текста первого псалма с одной печатной доски оттиснута гравюра с изображением коленопреклоненного царя Давида, молитвенно воздевшего руки к облачному Саваофу, с рядом лежащей лирой. Небольшие размеры этой композиции (61 х 44 мм) и ее близость иной, с изображением Богоматери с младенцем в сопровождении ангелов (размером 61x41 мм), указывают на использование Франциском Скориной уже имевшихся у него материалов, изначально не предназначенных для украшения изданной им Псалтири 27. Как и в изображении “Древа Иессея”, Богоматерь представлена с непокрытой головой, в соответствии с практикой ренессансных художников и в явном противоречии с византийской художественной традицией. Тематически гравюра с изображением Богоматери с младенцем и ангелами могла бы быть использована для иллюстрирования помещенных в дополнение к Псалтири десяти песен, но почему именно это не сделано, а изображение оставлено для Виленского издания “Малой подорожной книжки”, — неизвестно.
Книга Притчей Соломоновых иллюстрирована одной ксилографией, оттиснутой на титульном листе, перед предисловием, и повторно на заглавном листе, перед текстом самих притчей. Сюжет воспроизведенного здесь “Суда Соломона” как яркий пример мудрого решения изложен в ином месте, в Третьей книге Царств (3 Цар. 3: 16-27). Речь идет о двух женщинах-блудницах, спорящих из-за ребенка и обратившихся к царю с просьбой их рассудить. Эта тема относится к числу самых популярных в средневековом искусстве, но в латинских рукописях перед началом Притчей Соломоновых чаще можно видеть изображение Соломона, поучающего сына. Поэтому предположение Н. Н. Щекотихина, что і'равюра не предназначена специально для скорининского издания, не лишено оснований, по крайней мере по отношению к данной библейской книге. Соломон изображен сидящим на троне, в короне, со скипетром в правой руке, с предстоящими придворными и тяжущимися женщинами в европейских костюмах XV в. Соломон типологически напоминает известное по немецким гравюрам изображение Фридриха Барбароссы 28.
26 The Year 1200. Vol. I. P. 257-259. N 257 (Paris, Bibliotheque Nationalc, ms. lat. 8846).
27 Ср.: Пуцко В. Г. Художественное оформление изданий Франциска Скорины как историко-культурная проблема. С. 77.
28 Schreiner К. Friedrich Barbarossa — Herr dcr Welt, Zcugc dcr Wahrhcit, die Vcrkorpcrung nationalcr Macht und Hcrrlichkcit // Die Zcit dcr Staufcr. Stuttgart, 1979. Bd. V. D. 529. Abb. 393.
119
Гравюра, украшающая заглавный лист Песни песней Соломона, тоже относится к числу тех иллюстраций, которые имеют символический характер. Ее сюжет иногда определяют как изображение Христа и невесты, символизирующей Церковь, в контексте той иносказательности, которая в византийской художественной традиции нашла свое выражение в образе Христа, принимающего душу Богородицы 29. На Западе, напротив, становится известным и затем весьма популярным сюжет коронования Богоматери, представленный, в частности, в итальянской живописи XIV-XV вв. достаточно близкой иконографической формулой30. К подобному источнику явно восходит это изображение коленопреклоненной, с распущенными волосами Девы Марии, венчаемой восседающим на троне Христом.
Книга Премудрости Соломона в издании Франциска Скорины озаглавлена как “Книга Премудрости Божией”. Сюжет гравюры ее титульного листа принято трактовать как “Благословение”, либо как “Христос и Соломон”, или же “Премудрость Божия”. В последнем случае следовало бы видеть символическое изображение Премудрости в виде музы, подобной вдохновляющей евангелистов 31. Общеизвестно, что при выполнении данной композиции, представляющей Христа во славе с коленопреклоненным перед ним юношей, использована гравюра Альбрехта Дюрера “Семь светильников” 1498 г. из иллюстраций к “Апокалипсису”. Заимствована в упрощенном и перевернутом виде фигура Иоанна Богослова, фигура же Саваофа заменена образом Христа, светильники исключены, но зато введен новый мотив: зеркало, в котором тайнозритель видит “новое небо и новую землю” (Апок. 21: 1). Не служит ли это достаточным основанием, позволяющим упомянутую гравюру связывать в сюжетном отношении именно с “Апокалипсисом”, а помещение ее на титульном листе книги Премудрости Соломона считать обусловленным скорее всего наличием у издателя готовой печатной доски? В латинских Библиях XIII в. в начале указанной книги можно видеть изображения поучающего Соломона с мечом либо Соломона с воином или же пишущую Мудрость.
Гравюра на титульном листе книги Иисус Сирахов, как полагал Л. Т. Бо-розна, не иллюстрирует это произведение, но изображает обычный диспут времен Франциска Скорины. Это мнение как будто поддерживается общим характером композиции, представляющей группу мужчин перед кафедрой с сидящим писцом, пишущим левой рукой; несколько фигур на втором плане, расположенных в этом же просторном сводчатом помещении. Отмечен-
2’ Радойчич С. Од|ск Пссмс над песмами у српско] умстности XIII века // Рашка башти-на. Кральсво, 1975. Кнь. 1. С. 29-31.
30 Ocrtcl R. Friihe italicnischc Malcrci in Altenburg. Berlin, 1961. Taf. 39, 40. Abb. 92.
31 Радойчич С. Улога антике у старом српском сликарству // Радойчич С. Одабрани чланци и студне. 1933-1978. Нови Сад, 1982. С. 69-70. Сл. 45 47.
120
ная деталь показывает, что схема оригинала воспроизведена здесь, как и в иных уже названных случаях, в перевернутом виде. Определение же сюжета как диспут если и представляется допустимым, то не более того, поскольку возможны и иные толкования. Убедительным можно признать только то из них, которое опиралось бы на конкретный текст, позволяющий объяснить различные детали. В иллюстрациях латинских Библий XIII в. в соответствующем месте можно видеть изображения поучающего проповедника, поучающего царя либо персонификацию Церкви с копьем и чашей. Следовательно, говорить о явно вторичном использовании этой гравюры в ско-рининском издании пока преждевременно.
Во всей серии перечисленных иллюстраций ярко выделяется оригинальным построением композиции гравюра на титульном листе Плача Иеремии, который “вспомнил Иерусалим, во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему” (Плач 1: 7). Этот поэтический плач ветхозаветного пророка — свидетеля завоевания Навуходоносором II Иудеи и разрушения Иерусалима, осмыслен в художественном образе, путем представления сидящего на холме скорбящего старца, в типичной для Германии островерхой шапке, на фоне большого и хорошо укрепленного средневекового европейского города. Отождествление этого архитектурного мотива с конкретной местностью остается проблематичным, поскольку вопрос о документальной точности в воспроизведении реального прототипа остается открытым. Однако эта причина никак не препятствует рассмотрению гравюры в качестве иллюстрации Плача Иеремии. В латинских Библиях XIII в. иногда изображали плачущего Иеремию юношей.
В композиционной схеме последней сюжетной гравюры скорининской Библии, на титульном листе книги пророка Даниила, представлены Даниил во рву львином (Дан. 6: 16—24) и юный пророк Аввакум, чудесно переносимый ангелом за волосы из Иудеи в Вавилон, к Даниилу, с обедом (Дан. 14: 33-39). Эта тема была популярной в искусстве Византии, но ее решение осуществлялось в совершенно иных, большей частью иконописных композициях 32. Даниила во рву львином представляли и в миниатюрах латинских Библий.
Комментирование перечня сюжетов гравюр Скорининской библии, частично осуществленное в предлагаемом опыте, дает несколько больше того, что можно извлечь из их чисто художественного анализа. Возникает представление об издателе, у которого оказываются в руках несколько печатных досок, явно первоначально не предназначенных для выпускаемой им
52 Подробнее см.: Пуцко В. Г. Русская путевая икона XI в. // Памятники культуры: Новые открытия. 1981. Л., 1983. С. 201—203.
121
книги и поэтому как бы выпадающих из общей серии гравюр. На это уже обращали внимание исследователи, находившие указанному факту то или иное объяснение. Как можно видеть, преобладающее число композиций в сюжетном отношении непосредственно связано с текстом иллюстрируемых ими библейских текстов, и этот факт совершенно бесспорный. Однако ряд гравюр выглядят скорее приспособленными, особенно те, которые были бы более уместны как иллюстрации “Апокалипсиса”. Рассчитывал ли его издать Франциск Скорина в виде отдельного выпуска, и если да, то в каком оформлении?
Иконографические проблемы скорининских гравюр ветхозаветного цикла Библии, бесспорно, требуют максимального расширения художественного контекста, без чего вряд ли можно рассчитывать на их решение. Здесь сравнительный материал был привлечен скорее попутно и в той мере, в какой он мог служить объяснению именно сюжетов, не всегда бесспорных. Но и здесь становится очевидным, что в распоряжении граверов (а может быть, и издателя) не было образцов, объединенных в единый цикл, примером которого, скажем, могут служить украшенные миниатюрами средневековые латинские списки Библии. Правда, последние вряд ли бы оказались пригодными в этой функции, поскольку в них преобладают так называемые исторические инициалы, в сюжетном плане чрезвычайно лаконичные. С византийской художественной традицией скорининские гравюры практически не соприкасаются вообще, будучи ориентированы преимущественно на наследие немецких мастеров. Не исключено, что из их числа вышли и непосредственные исполнители обсуждаемых гравюр. По крайней мере, сравнительный анализ последних располагает именно к таким выводам.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН