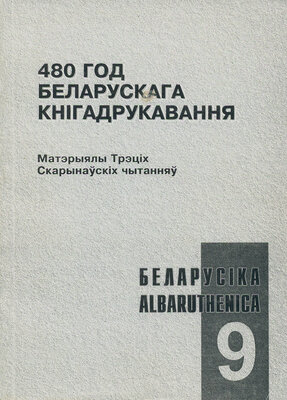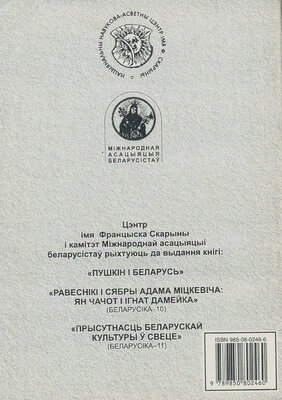480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 272с.
Мінск 1998
Справа вырашаецца пры непасрэдным даследаванні дакумента. Памя-нутая “муляжная копія” з’яўляецца арыгіналам XVIII ст., аб чым сведчаць усе археаграфічныя прыкметы: наяўнасць адбітку пячаткі, філігрань з ар-лом, палеаграфія рукапісу і інш. Стэфан Борджыа — рымскі кардынал другой паловы XVIII ст., а ягоны ліст адрасаваны полацкаму уніяцкаму архі-епіскапу Іасану Юнашы Смагажэўскаму (з 1762 г.). Недакладна адчытана даціроўка ліста.
Гэта, здаецца, усе асноўныя праблемныя дакументы і матэрыялы збор-ніка. За межамі нашага разгляду засталіся многія іншыя праблемныя акты
16 Францыск Скарына: Зборнік... С. 53-54, 318.
19
і міфалагемы, што назапашаны за столькі стагоддзяў існавання навуковай і папулярнай Скарыніяны. Памылкі і міфы менш перашкаджаюць развіццю навуковых даследаванняў, чым недахоп інфармацыі і цяжкасць доступу да рэпрэзентатыўных гістарычных крыніц. Ніводнае з папярэдніх выданняў не мае такога цэласнага аб’ёмнага і каменціраванага збору ўсей той дакумен-тальнай спадчыны, што шчаслівым лёсам дайшла да нашых часоў. У гэ-тым асноўная выдатная заслуга складальніка зборніка.
У заключэнне варта дадаць яшчэ некалькі актаў і дакументаў, якія, на-пэўна, могуць быць адзначаны ў новым выданні зборніка:
1. Нязгаданыя ў зборніку акты, зарэгістраваныя Т. Вяржбоўскім па матэ-рыялах Кароннай метрыкі (Wierzbowski Th. Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensis as-servantur... Pars IV. Sigizmundi 1 regis tempora comlectens (1507-1548). Vol. 2. Acta vicecancellariorum 1507-1535. Varsoviae, 1912. № 11991 —дэкрэт у справе Андрэя з Львова з віленскімі мяшчанамі, у т. л. з Іванам Скарынічам; № 16615, 16622 — гаспадарскія прывілеі Францыску Скарыну 1532 г.).
2. Новы дакумент аб размяшчэнні камяніцы жонкі Скарыны Маргары-ты Адвернік на Нямецкай вуліцы (Расійскі дзяржаўны архіў старажытных актаў = РДАСА, ф. Літоўская метрыка, 389, воп. 1, адз. зах. 119).
3. “Прагматычная санкцыя” 1532 г. (Archiwum Paristwowe w depozycie Archiwu miasta Poznania. Acta consularia. Bruliony I. 115 (AS 124). P. Юб-109 r.).
4. Новы дакумент аб нябожчыку Яне Марцінавічы Тоўсціку, што даз-валяе ўдакладніць дату смерці Францыска Скарыны (Дзяржаўны гістарыч-ны архіў Літвы, ф. Стараж. акты, адз. зах. 5333).
5. Акт 1605 г. “На добра и земълицу Еска Скорынинского урожоному Павлу Пчыцкому, малжонце и потомком его правом вечным” (РДАСА, ф. Літоўская метрыка, 389, воп. 1, адз. зах. 88, арк. 238-239 адв.).
6. Актавыя запісы ў кнізе выпускнікоў Віленскай акадэміі з вучонымі ступенямі. Зарэгістраваны ў 1753 і 1771 гг. два “лаўрэаты” з роду Скарыны (Academijos Laurai... Vilnius, 1997. 3. 365).
He пашкодзіць зборніку, на наш погляд, уключэнне ў яго склад рэаль-ных наратыўных звестак, сведчанняў пісьменнікаў, палемістаў, асветнікаў, кнігавыдаўцоў XVI—XVII стст. аб Скарыну і яго дзейнасці.
20
ЮРИЙ ЛАБЫНЦЕВ (Москва)
ДОКТОР ФРАНЦИСК СКОРИНА И СЛАВЯНСТВО
Имя доктора Франциска Скорины “из славного града Полоцка” становится известным все более широкому кругу людей во всем мире.
В своем “Предъсловии в книгу Иов” Скорина писал: “И всякому человеку потребна чести, понеже есть зерцало жития нашего, Лекарство душевное, Потеха всем смутным наболей тым они суть в бедах и немощах положены, Надежа истинная востания из мертвых и вечного живота” 1.
В этой непростой для понимания современного читателя фразе — тысячелетний опыт человечества, указание пути к осмыслению нашего бытия, общечеловеческой его сути, той самой Вечной Истины, поискам которой в разные времена и у различных народов были отданы жизни лучших философов, писателей, музыкантов, художников, религиозных деятелей.
Франциск Скорина — писатель-философ, писатель-гуманист, выступивший перед своим народом с яркими патриотическими воззваниями, и одновременно глубокий психолог, лирик, сумевший рассказать людям о величайших тайнах мира.
Наряду с многими книгами, в том числе им самим написанными, Скорина издал в своем переводе значительную часть Библии.
Она стала первой печатной Библией у восточно- и южнославянских народов и вышла в свет почти за полстолетия до появления польских печатных Библий.
Задолго до гения мировой литературы Льва Толстого Франциск Скорина доверил бумаге такие сокровенные, выстраданные свои мысли, читающиеся теперь как некая абсолютная законченная формула духовного развития человека: “Есть наивышшая мудрость розмышление смерти и познание самого себе” 2; “Наиболей любовь ко всим да соблудает, еже есть совершена над все иные дарования, без нея же ничто проспешно есть”3.
Средством, инструментом пропаганды этой земной всечеловеческой любви Скорина избрал печатную книгу, доступную его братьям на Руси благодаря хорошо понятному языку и значительным тиражам. И как завет всем созидающим Книгу, писателям будущего и самому себе прозвучали слова просветителя: “Також и мы братия не можем ли во великих послу-
' Книга Иова. Прага, 1517, 10 сснт. Л. 2 об.
2 Там же.
5 Коринфом псрваго послания свстого апостола Павла сказание доктором Франциском Скориною с Полоцка // Апостол. Вильна, март 1525. Л. 36 об. третьего счета.
21
жити посполитому люду рускаго языка, сие малые книжки праци нашее приносимо им”4.
“Да совершен будет человек”, — вслед за авторитетами древности восклицал Франциск Скорина 5. Он стремился сделать все, чтобы его народ на родном языке мог постичь сокровенную мудрость человечества.
Как выдающийся европеец-гуманист Скорина страстно желал послужить общему делу духовного возрождения человека, его внутреннему совершенствованию. Этому и посвящены книги великого белоруса, воспринимающиеся сейчас как самая дорогая национальная реликвия, как духовное сокровище, как символ всей тысячелетней белорусской культуры.
В силу исторических условий, в отличие от западноевропейских гуманистов, Скорина должен был весьма считаться с особой, веками узаконенной восточнославянской книжной традицией, которую тем не менее он значительно реформировал. Невозможность отойти в своем литературном творчестве на традиционном литературном языке — церковнославянском — и даже на языке, близком к народному, от этой традиции (иначе он бы не был понят соотечественниками-современниками), вынуждает Скорину максимально опираться на нее, часто высказывать свои собственные суждения устами известных древних авторитетов.
Использование в творчестве чисто традиционных, восточных, начал и сплав их с западными дали необычайно интересный, оригинальнейший литературно-графический материал, ставящий в тупик при его рассмотрении не только современника Скорины, но и ученого наших дней. Рождающийся художественный образ заставляет одновременно помнить и о литературных особенностях Востока, и о достижениях графического искусства Запада, и о той общности культур, которая свойственна всей Европе. Вот почему невозможно отделить в творчестве Скорины эти две главнейшие европейские культурные традиции: традицию византийского Востока и традицию римского, латинского Запада. Франциск Скорина связал, замкнул их в своем творчестве. Об этом свидетельствуют не только сами тексты скори-нинских книг, но и их архитектоника, композиция, графика.
Величайшая заслуга Скорины в том, что он предназначает свои издания и сочинения не узкому кругу образованных лиц, пишет для них не на латинском языке, как это делает, например, Эразм Роттердамский, а, используя в основном традиционные литературные жанры и близкий к народному язык, создает народноязычные издания. Книги Скорины — “четьи” — подобные тем, которые легли в основание многих европейских национальных литератур, имели конкретный читательский адрес.
4 Прсдословис доктора Франъциска Скорины с Полоцъка во книги Лсувит Моисеевы // Книга Левит. Прага, около 1519. Л. 2об.-3.
5 Прсдословис в Псалтирь // Псалтырь. Прага, 6 авг. 1517 г. Л. 2.
22
Выпущенные им книги — это не просто переведенные или подготовленные к печати тексты, снабженные теми или иными комментариями. Книги Скорины — сложный комплекс сотен самых различных литературных произведений, написанных, переведенных или подготовленных им к изданию по канонам тогдашней европейской науки. Скорина как мастер слова предстает перед нами сразу в нескольких авторских ипостасях: писателя-прозаика, гимнографа и поэта, переводчика с нескольких древних и новых языков.
Книги Франциска Скорины выступают как единство содержания и его типографского воплощения, служащего своеобразным фоном и обрамлением главного в книге — слова, написанного или переведенного просветителем. Эта неразрывная связь прослеживается на всех уровнях, на примере всех элементов книг Скорины, включая даже мельчайшие.
Почти одинаково важны и титульный лист, и предисловия, и надписания глав, и основной текст, и колофон, и все тйпоірафскйе и графические элементы, начиная со шрифтов и кончая гравюрами, а также приемы набора и верстки, манера подачи материала, компоновка страниц, использование краски черного и красного цветов.
Необходимо понимать и помнить, что книги Скорины — это именно единство, нерасторжимое, неделимое. В слиянии искусства словесного, графического и типографского он достиг величайшего совершенства, создал столь простую и совершенную гармонию слова и его материального, книжного, печатного воплощения, к которой в новейшее время так страстно стремились европейские модернисты, русские символисты.
Скорина-прозаик работал во многих жанрах, одни из которых были у нас традиционными, другие, и их едва ли не большинство, впервые введены в белорусскую, да и во все восточнославянские литературы именно им.
Сравнивая сделанное Скориной с творчеством его виднейших европейских современников, нельзя не отметить, что в отличие от многих из них он значительно опередил время, сознание своего народа. Лишь спустя столетия и его, Скорину, назовут великим. Он станет символом всей белорусской культуры. Его, Скорину, мы оценим за то, что литература на родном языке оказалась для него и средством, и целью, тем абсолютом, который мог указать людям истинный путь в жизни.
За свою жизнь Скорина объездил немало стран, учился в старейших европейских университетах, достиг высших ученых степеней, был доктором “семи свободных искусств” и доктором медицины. Все это дало ему возможность, как никому в восточном славянстве, сопоставить жизненные ценности Запада и Востока Европы, решить для себя и других, прежде всего для “братьев” своих “Руси”, те многочисленные философско-гуманитарные, богословские и литературные проблемы, которые и на сегодняшний день все так же важны для нас.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН