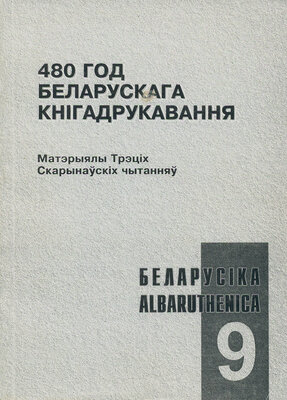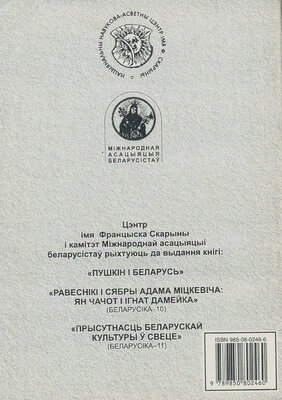480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 272с.
Мінск 1998
2. Дзеячам рэнесансавай культуры хрысціянскай арыентацыі (асветні-кам, мастакам, мысліцелям) удалося паяднаць ідэалы антычнага эстэтызму і хрысціянскага маральнага рыгарызму. Гэты сінтэз маральных і эстэтыч-ных адкрыццяў дзвюх эпох (антычнай і рэнесансавай) добра праглядваец-ца ў літарагурна-асветніцкай спадчыне слаўнага палачаніна Ф. Скарыны. Духоўна-культурная атмасфера высокага Рэнесанса з яго культам красы і гармоніі, а таксама старагрэчаскія крыніцы (грэчаскі пераклад Бібліі, вя-домы пад назваю Септуагінта) паўплывалі на ўзмацненне эстэтычных ацэ-нак у Скарынавым перакладзе кніг Бібліі на беларускую мову. Тым больш што гэта было, па сутнасці, свецкае навукова-папулярнае выданне Бібліі, ажыццёўленае без аглядкі на царкоўную цэнзуру.
3. Ф. Скарына не карыстаўся Арыстоцелевым паняццем калакагатыі, аднак эстэтычныя, этычныя і прававыя аспекты яго каментарыяў да біблейскіх кніг сведчаць пра яго ідэалы адзінства дабра, красы і паспалі-тай (грамадскай) мэтазгоднасці. Яны не засталіся толькі забытай традыцы-яй і гістарычным рарытэтам, не страцілі актуальнасці не толькі для асвет-ніцтва і маральна-эстэтычнага выхавання, але і для аднаўлення прававой дзяржавы ў нашай Бацькаўшчыне.
Гэтая актуальнасць ёсць не толькі ў сэнсавых акцэнтах літаратурнай спадчыны асветніка, але і ў яго канкрэтных высновах і рэкамендацыях у справе пабудовы гарманічнага грамадства і прававой дзяржавы. Гэтая кан-крэтыка ёсць, напрыклад, у Скарынавым “Сказанні” да біблейскай кнігі Другі закон, дзе ёсць такія заканадаўчыя імператывы, як “роўная свабода ўсім”, адпаведнасць прававых нормаў агульналюдскім духоўным каштоў-насцям і нацыянальнай спецыфіцы пэўнага рэгіёна.
35
БОРИС САПУНОВ (Санкт-Петербург)
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ СКОРИНЫ
зучение этой темы, имеющей большое историко-культурное значение, стало возможно лишь в последнее время, когда был снят запрет на исследования в этой области. Совершенно очевидно, что религия всегда оказывала большое влияние на культуру общества, формировала эстетические, философские, политические
воззрения всех его членов. Для каждого конкретного человека религия означала больше, чем конфессия. Она была базой, определяющей его менталитет. Не реконструируя религиозные взгляды Скорины, невозможно точно определить его политические и национальные позиции. Высокая актуальность темы определяется тем, что в настоящий момент, когда начался процесс государственного объединения двух братских белорусского и русского народов, следует подчеркивать глубинные истоки этого исторического события, традиционную общность русских и белорусов.
Новизна темы определяется тем, что на поставленный вопрос еще нет определенного ответа. Официальное издание Скоринианы утверждает, что вопрос о религиозных убеждениях Скорины до сих пор остается открытым 1. У исследователей нет прямых письменных доказательств принадлежности Скорины к той или иной конфессии. Поэтому следует привлекать косвенные источники, которые в своей совокупности могут дать достаточно репрезентативный ответ.
Теоретически можно предположить три варианта ответа. Скорина мог исповедовать православие, католичество или протестанство. Вопрос о том, мог ли Скорина поддерживать идеи унии, более сложен, ибо Брестская уния была провозглашена в 1596 г., а умер Скорина в 1552 г. Впрочем, учитывая, что идея унии сформировалась раньше, Скорина мог думать о слиянии православия с католичеством.
Исходя из того, что Скорина учился в католических университетах Западной Европы, куда доступ для православных абитуриентов был закрыт, ряд исследователей, в том числе Е. Л. Немировский, пришли к мысли, что Скорина был католиком. В связи с этим возникнет вопрос об имени великого белорусского просветителя. До войны его именовали Георгием, после войны он стал Франциском. Никаких документов ни о рождении, ни о крещении Скорины, к сожалению, не сохранилось. Поэтому загадка двух имен первопечатника до сих пор не разгадана. Между тем за ней скрывается какая-то серьезная причина. Имя Георгий (от греческого “гео” — земля) мог носить человек, принадлежащий к разным конфессиям — католичеству, пра-
1 Францыск Скарына і яго час: Энцыкл. давсднік. Мн„ 1988. С. 465.
36
вославию, протестанству, мусульманству, иудаизму. В противоположность ему, имя Франциск мог носить только католик. Поступив в католический университет Кракова, затем — Падуи, Скорина должен был доказать мандатным службам этих университетов свою конфессиональную благонадежность Ватикану. Впервые Скорина назван Франциском в метрике Краковского университета в 1504 г., когда он был зачислен студентом этого университета. Возникает вопрос, какое же имя он получил при рождении? В специальной литературе нет единства в вопросе о точной дате рождения Скорины. Называли 1476, 1486, 1487, 1490 и 1491 годы. Попытаемся предложить новый метод решения этой вековой загадки. На печатной марке белорусского просветителя помещено изображение Солнца, которое частично перекрыто серпом Луны. В литературе эту сигнету Скорины обычно трактуют как символ света (Солнца), разгоняющего мрак невежества. Но такая дешифровка образа неубедительна. Скорее наоборот. Луна перекрывает диск Солнца. Напрашивается предположение, что на гербе Скорины запечатлено реальное космическое событие — затмение солнца. Хорошо известно, какое глубокое впечатление на психику людей средневековья оказывало это явление. Астрономы установили, что 6 мая 1486 г. в районе Полоцка наблюдали частичное затмение Солнца. По православному календарю 6 мая нового стиля отмечается день святого Георгия. Согласно православной традиции новорожденному давали имя того святого, память которого отмечали в день его рождения. Из этих предпосылок следует, что Скорина родился 6 мая 1486 г. и при крещении по православному обряду получил имя Георгий, которое в 1504 г. сменил на псевдоним Франциск. Про свою национальную и религиозную принадлежность сам Скорина в предисловии к книге Пророка Даниила писал: “Аз ... нарожден в русском языке” (Даниил пророк. Прага, 1519). В предисловии к Третьей книге Царств Скорина, обращаясь к будущим читателям, восклицал: “Братья мои Русь, люди посполитые” (Третья книга Царств. Прага, 1518).
Здесь возникает новый вопрос. Если студент католического Краковского университета выдавал себя за католика, то было ли это вынужденным шагом для успешного продолжения обучения в первоклассном учебном заведении Европы либо сознательной сменой конфессиональной ориентации? Судить о человеке следует не по анкетным данным, а по его делам. Скорина был первопечатником и просветителем белорусов, и его религиозная и политическая ориентация должна была запечатлеться в изданных им книгах, в авторских предисловиях и послесловиях к его изданиям. По мнению А. М. Курбского, изданная Скориной Библия была “растленна” — противоречила всем святым уставам и во всем была сходна с Библией Лютера. С ним были солидарны ортодоксальные католики, которые энергично обвиняли Скорину в отходе от канонов римско-католической церкви и приверженно-
37
сти идеям Реформации. Анастасий Селява —■ деятель контрреформации и активист унии в 1662 г. — называл Скорину “гуситским еретиком”, а в изданной им Библии видел источник ереси, которая возникла у западных православных славян.
В противоположность им деятели протестанства видели в Скорине своего единомышленника. Так, протестантский издатель Примус Трубер (1508-1585) в изданих, предназначеных для восточных славян — русских, украинцев, белорусов, следовал изданиям Скорины. Протестантские издатели Симон Будный и Василь Тяпинский почти полностью повторяли издания Скорины. Борцы с католицизмом и унией братья Зизании испытали влияние изданий Скорины. Первый протестантский пастырь Пруссии Павел Сператус бережно хранил Псалтырь Скорины из “Малой подорожной книжки”.
Я. Ф. Головацкий считал, что в 1523 г. Скорина ездил в Виттенберг, где встречался с Ф. Меланхтоном и, возможно, с самим М. Лютером.
О конфессиональной ориентации Скорины говорит судьба его изданий на русском книжном рынке. Известный исследователь творчества Скорины П. В. Владимиров в 1888 г. утверждал, что в XVI в. в России были известны почти все издания белорусского первопечатника. Весьма характерно, что все выписки из печатных изданий Скорины, выявленные П. В. Владимировым в русских рукописных книгах, приведены без указания имени белорусского просветителя. Создается впечатление, что московская духовная цензура не видела в изданиях Скорины ничего опасного для православия, но к личности Скорины относилась с подозрением. Московские ортодоксы считали, что Скорина “пошатнулся в вере”. Если бы они видели в Скорине идеолога католицизма или протестанства, все его издания были бы полностью изъяты.
Радикальное изменение отношения как к изданиям, так и личности Скорины произошло в середине XVII в. Автор данного сообщения много лет собирал описи русских библиотек XVI-XVII вв. Массовый материал, включающий более 13 000 карточек на все отмеченные в описях книги, позволяет сделать вполне достоверный вывод, что с началом московского барокко, исполнившего в русской культуре функции несостоявшегося в XVI в. русского ренессанса, сложилось новое отношение к Скорине. Его издания встречаются в описях библиотек с указанием полного имени издателя и автора предисловий. К слову отметим, что, по мнению современных русских богословов, все издания Скорины вполне ортодоксальны и по ним можно совершать богослужение. Все приведенные материалы позволяют прийти к выводу, что Франциск, по крещению Георгий, Скорина всю жизнь оставался в лоне православной церкви. Двойственное отношение к нему в XVI и первой половине XVII в. объяснялось тем, что он, не требуя рефор-
38
мации православия, выступал за некоторое ослабление жесткой ортодоксии. Как великий просветитель своего периода он призывал к гуманизму, к повышенному интересу к человеческой личности, к просвещению своих соотечественников. То есть был проповедником Ренессанса на земле Белоруссии. Именно эти гуманистические идеи обеспечили ему признание в России во второй половине XVII в., когда в Москве получил развитие свой вариант Возрождения.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН