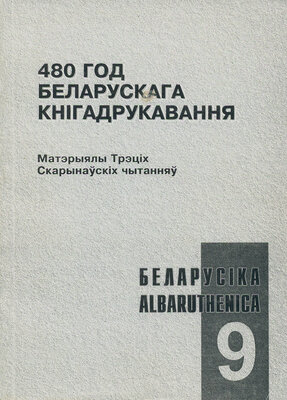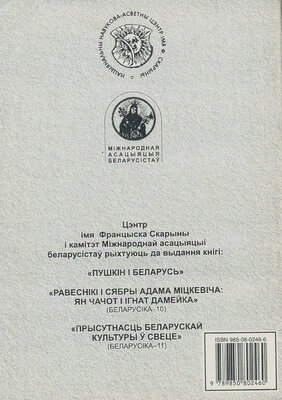480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 272с.
Мінск 1998
“Беседа о брани” Симеона Полоцкого явно написана в расчете на русского царя и придворные круги с целью приблизить их к европейскому правовому сознанию, о полном отсутствии которого свидетельствует драматический эпизод, происшедший в 1660 г. на Берестейщине, когда на просьбу послов Великого Княжества Литовского прекратить убийства и грабежи на время переговоров московский воевода князь Петр Хованский ответил решительным отказом.
207
Судя по написанным в молодости Симеоном польскоязычным поэмам, посвященным польско-шведской войне, и “Беседе о брани”, созданной им уже в зрелые годы, тема войны и мира волновала просветителя на протяжении всей жизни. Подлинные события Симеон Полоцкий изображает далеко не всегда достоверно. В одиннадцатом фрагменте явно преувеличены военные успехи Речи Посполитой. Речь идет о незначительном эпизоде в начале польско-шведской войны: в сентябре 1656 г. войско под командованием коронного маршалка Иеронима Любомирского осадило Краков. Польские историки пишут, что эта осада шла вяло и большого урона шведскому гарнизону города, которым с 5 февраля 1656 г. по 16 мая 1657 г. командовал генерал Павел Вюртц, она не принесла. Тогда же эти события стали получать такую же, как в поэме Симеона Полоцкого, пышную литературно-публицистическую трактовку, представляющую осаду Кракова как важнейшую военную операцию. В поэме “Отчаяние короля шведского” шведы уже якобы совсем побеждены — кто убежал, а кто погиб.
На самом деле несравнимо больший военно-политический резонанс в пределах Речи Посполитой и во всей Европе получила битва под Простка-ми (в “Королевских Прусах”).
В августе 1655 г. гетман Богуслав Радзивилл подписал вместе с Яну-шем Радзивиллом Кейданский договор о переходе Великого Княжества Литовского от унии с Речью Посполитой к унии со Швецией. В неравном бою имевшие большое численное превосходство шведы и выступавшие на их стороне польские полки потерпели сокрушительное поражение. Это была одна из первых побед Речи Посполитой после периода оцепенения, когда многим казалось, что она стоит перед гибелью.
Симеон Полоцкий пишет об итогах исторической битвы. Его комментарии, несмотря на сатирическую окраску, близки к исторической правде. Кратко сообщает автор поэмы о пленении войсками Гонсевского под Бо-гуславцем князя Бернанда Веймарского, гетмана Богуслава Радзивилла, шведского военачальника Исраэля Иссаксона Риддерхельда, братьев Ангелов — английских офицеров на шведской службе Иоахима и Ганса, шведского генерала Боктранека. Судя по известным сегодня реляциям, приказам того времени, все это действительно произошло 9 октября 1656 г. Возможно, поморская тематика больше других интересовала просветителя. Он пишет о взятии русскими войсками Нарвы и смерти графа Ферсена, об отступлении Де ля Круа из центральной Польши в Поморье, о неудачном походе шведского генерала Стенбока в начале 1657 г. под Биржами — родовым поместьем Радзивиллов.
С “поморскими фрагментами” в поэмах Симеона Полоцкого перекликаются и стихи о положении в Лифляндии. Писатель вновь и вновь обращается к описанию русской кампании по осаде Риги, длившейся с 23 авгу-
208
ста по 12 октября 1656 г. Поэт изображает, насколько плачевно обстоят дела руководителя ее обороны графа Магнуса де ла Гарди, назначенного генерал-губернатором Ливонии и одновременно главнокомандующим на огромном фронте от Ладожского озера до Двины 1 июня 1655 г. Заметим: исторические документы убеждают, что де ла Гарди не только успешно руководил обороной города, но и организовал 2 октября 1656 г. смелую вылазку. Рижане ударили по укреплениям осаждающих и нанесли им сильное поражение. В немалой степени именно из-за этого русский царь вынужден был прекратить осаду Риги и отступить в Полоцк.
Нежелательный политический эффект от неудачи “московитов” под Ригой Симеон Полоцкий стремится приглушить в нескольких своих сочинениях. В “Виршах на счастливое возвращение его милости царя из-под Риги” просветитель говорит об избавительной миссии Алексея Михайловича для белорусов, называет его “светом веры”, объявляя само присутствие его на белорусской земле великим благом. А в заключительной части поэмы “Отчаяние короля шведского”, по воле автора, главный герой — Карл X Густав — будто специально, чтобы порадовать своих противников, перечисляет пережитые им главные военно-политические неудачи: победы гетмана Гонсевского в Пруссии, измену курфюрста Бранденбургского, потерю союза с Радзивиллами и польским вице-канцлером Иеронимом Радзе-ёвским, выдворенным из родной страны за растрату казны еще в 1652 г., обосновавшимся в Швеции и пытавшимся всеми способами вернуть утраченные привилегии2.
Итак, несмотря на то что поэма писалась в то время (не позднее лета 1657 г.), когда многие надежды и политические начинания правительства Алексея Михайловича явно не оправдали себя, автор намеренно выставляет положение русской стороны в самом благоприятном свете. Обращаясь к более ранним произведениям Симеона Полоцкого — “Приветствию взятия Дерпта”, полоцким и витебским виршам (1656), замечаем, что сочувствие автора русскому царю просматривается и в этом тексте.
В ранних декламациях, адресованных Алексею Михайловичу, Симеон Полоцкий подчеркивал, что главная цель русского царя в развязанной им войне с Речью Посполитой и Швецией — не расширение владений за счет захвата новых земель, а миссионерское радение за чистоту веры. В этих же виршах автор намекает и на дерзкие планы проведения русскими военной экспедиции из Финского залива морем на Стокгольм 3.
Две польскоязычные поэмы, посвященные польско-шведской войне, — еще одно свидетельство того, что писатель был последовательным сторон-
2 Кан А. История Швеции. М., 1974. С. 204.
3 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. СПб., 1896. 2-е изд. Т. X. Кн. 2. Стб. 1697.
209
ником союза Речи Посполитой с Российским государством. В отличие от авторов анонимных польско-немецких поэм, Симеон Полоцкий гораздо подробнее и точнее изображает непосредственных участников “Потопа”, многочисленных лиц, связанных с этими событиями (Оливера Кромвеля, трансильванского князя Георга Ракоци, шведского канцлера Акселя Оксен-шерна, шведского полководца графа Магнуса де ла Гарди, посланника крымского хана Мехмуда IV). Редко упоминаются в исторических документах такие герои поэм Симеона, как шведский полковник Леон Хауплт и комендант шведского гарнизона Биржского замка Палл. Политико-сатирические поэмы Симеона Полоцкого расширяют наши представления об административно-политической географии подобного рода литературных памятников, а также о социальной и конфессиональной принадлежности ее создателя. Поэмы написаны сторонником мирного единения церквей — Симеон Полоцкий был монахом латино-униатского ордена Василия Великого (ба-зилиан), учрежденного в 1617 г. униатским митрополитом Иосифом Рутс-ким с центром при Виленской Свято-Троицкой обители (отметим, что именно монахам-базилианам было вверено воспитание и обучение светского юношества)4.
В XVII в. роль главного проводника в России западной культуры играла, несмотря на постоянные конфликты, Речь Посполитая, а польский язык стал выполнять в тогдашнем московском обществе обязанности, весьма похожие на роль французского языка в петербургских салонах XIX в., то есть он был средством общения среди наиболее образованных людей.
Именно во время правления царя Алексея Михайловича Российское государство значительно увеличило свою территорию за счет белорусских и украинских земель. Это сопровождалось приобщением Москвы к некоторым европейским культурным традициям. Ф. М. Ртищев, Симеон Полоцкий и его ученик царь Федор Алексеевич содействовали созданию новой для России системы церковно-благотворительных учреждений.
Униат Симеон Полоцкий в сложных московских условиях чувствовал себя, очевидно, миссионером и просветителем, убежденным во всепобеждающей силе разума, образования, книжного знания, призванного смягчить нравы. В России же культура традиционно мыслилась в оппозиции к цивилизации. В Москве просветитель нашел учеников, последователей, влиятельных единомышленников (западников типа митрополита Сарского и Подонского Павла, Ф. Ю. Ромодановского, Г. А. Долгорукого, Ф. М. Ртищева, Б. М. Хитрово), способствовал установлению принципиально новых для Российского государства образовательных институтов, интеллектуально программировал целое направление в русской культуре.
4 Прот. Константин Зноско. Исторический очерк церковной унии. М., 1993. С. 141 142.
210
Все, чему научился Симеон Полоцкий в Киево-Могилянской коллегии и Виленской иезуитской академии, сумел он с пользой употребить в московский период общественно-просветительской деятельности: составляя десятки проповедей, произнесенных им в московских и подмосковных храмах, закреплявшие связь церкви с народом, с национальной жизнью, он явно использовал наставления, почерпнутые из книг украинского проповедника Иоаникия Галятовского, “Ключ разумения”, “Наставления в риторике” Виленского профессора Казимира Кояловича и “Практического красноречия” своего учителя по Виленской академии Сигизмунда Лауксмина, книги, одиннадцать раз переиздававшейся в типографиях Вены, Мюнхена, Праги, Франкфурта. Работая над стихотворными “Френами, или Плачами на смерть царицы Марии Ильиничны” (1669), Симеон творчески учитывал опыт “Тренов” на смерть малолетней дочери выдающегося польского поэта Яна Ко-хановского, “стихотворя” Псалтырь, опирался на блестяще переведенные на польский псалмы того же Кохановского. Составляя пьесы “Комедия притчи блудного сына” и “Трагедия Навуходоносора” для первого в России придворного театра, Симеон также ориентировался на польские, белорусские и украинские образцы (в Полоцке иезуиты основали театр еще в 1585 г., и первым представлением стала трагедия “Навуходоносор”).
На масштабном, историко-культурном поприще Симеон Полоцкий победил: ему удалось интеллектуально запрограммировать всесильных властителей Российского царства, внушая подданым “уважение к власти”, получившее теоретическое обоснование в знаменитом трактате Сымона Будного “Защита власти”, а правителей подводя к мысли о необходимости благотворительности в государственном масштабе.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН