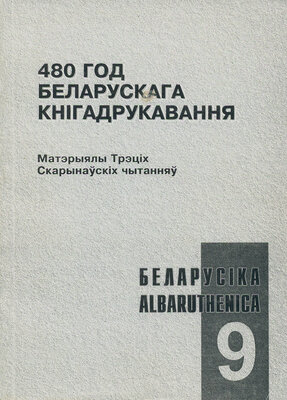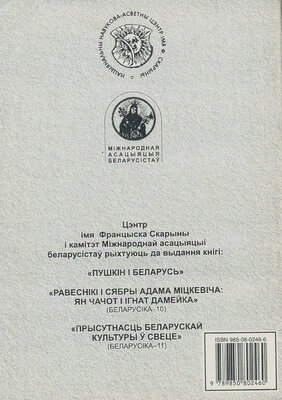480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 272с.
Мінск 1998
Симеон Полоцкий был среди тех, кто еще в XVII в. пытался не допустить разрыва между церковью и культурой, пересказывая в виршах все новинки современной ему науки и популяризируя в стихах предания и анекдоты из литературного европейского наследия разных эпох.
И все же сегодня историки искусства склонны оценивать победу нового религиозно-художественного направления XVII в., идеологом которого был Симеон Полоцкий, как трагедию самих новаторов, как разрыв с Преданием, временное “обмирщение” русской иконописи, утрату переживания и переосмысления Предания.
Важнее растущей популярности переводной развлекательно-поучительной литературы, модного увлечения пришедшим с Запада театром, было осознание все большим числом русских людей необходимости учиться у Запада. Поэтому самыми главными своими задачами Симеон Полоцкий считал издание “Букваря” и Псалтыри, по которым в XVII в. учились читать, а среди переводной литературы на первом месте оказались пособия по грамматике, арифметике, лечебники и космографии (вспомним греко-
211
славяно-российский лексикон Епифания Славинецкого и его же перевод знаменитого трактата основоположника научной анатомии А. Везалия).
Подобно Аввакуму, Симеон Полоцкий испытал на себе серьезное влияние паулинизма — идей святого апостола Павла. Он часто ссылается в своих виршах и проповедях на апостола Павла, цитирует его послания. Основой паулинизма является свобода, с одной стороны, противопоставленная системе внешних норм и запретов, а с другой — произволу. Именно в этом духе понимал свободу и Симеон Полоцкий.
Уважение к власти — основа правового европейского мышления. Внушая эту мысль своим читателям, Симеон Полоцкий последовательно пытался проводить среди россиян свою миссию — европейскую миссию в России.
Споры о принципах перевода и редактирования Библии были по сути своей спорами о будущем России, о том, по какому пути ей следовать, — опираясь на разум, интеллектуальное знание, предлагаемое Западом во многочисленных книгах, привозимых в Москву украинскими и белорусскими интеллектуалами, или опираясь лишь на веру, осторожно ограничивая чтение “тлетворных латинских и полских книг”, как предлагал активный православный оппонент Симеона инок Евфимий Чудовский.
“Восточники”-мудроборцы начали ощущать коварность бездонной книжной мудрости для неискушенного читателя, без надежного наставника пустившегося в странствие по ее волнам. Поэтому, считали они, возможен иной путь спасения, а значит, другое отношение к письменному слову: сознательное уклонение от “внешней учености” и постижение сокровенных знаний через духовное самоуглубление, подобно Сергию Радонежскому, одаренному свыше совершенным “книжным разумом”. Богооткровенную мудрость “восточники” противопоставляли суетным “внешним” наукам западников.
Значительным оказалось влияние Симеона Полоцкого на его младших современников — Сильвесзра Медведева, Кариона Истомина, Мардария Хоникова, Андрея Белобоцкого.
Симеон Полоцкий предложил свою, европейскую, западническую трактовку даже такой традиционной для русской культуры темы, как смерть, связанной в его мировоззрении с понятием времени. Симеон одним из первых начал закреплять в сознании современников олицетворения быстротекущего времени, содержащие социально значимую мысль о его ценности. Здесь писатель по-своему предвосхищает сдвиги в отношении ко времени, происшедшие вскоре в России. Именно в XVII в. “боевые часы” — куранты — появились в самых захолустных городах России, настольные и “боевые” часы — в хоромах многих московских придворных (В. В. Голицина, А. С. Матвеева и мн. др.).
212
Близкую Симеону Полоцкому трактовку темы смерти и времени вскоре получат и в стихах Кариона Истомина, Андрея Белобоцкого.
Симеон Полоцкий на четверть века опередил и в какой-то мере “спровоцировал” появившуюся в России моду на басню. Несмотря на то что первый русский перевод “Притчи, или Баснословие Езопа Фриги” был сделан в Москве уже в 1607 г. (его автор — переводчик Федор Гозвинский, служивший в Посольском приказе), первое издание на русском языке “Притчей Эзоповых” было напечатано в Амстердаме только в 1700 г. Не случайным видится в этой связи и распоряжение Петра I украсить Летний сад и сад Петергофа скульптурными изображениями сценок из басен Эзопа, смысл которых император нередко лично разъяснял своим гостям.
Политические симпатии Симеона Полоцкого ощутимо отразились в его текстах: само понятие тирана в значении жестокого правителя в русскую поэзию ввел Симеон Полоцкий. Не ограничиваясь аллегориями, представляющими тиранию под видом подчинившего себе всех горького и зловредного растения крушины или поедающего своих подданных овец злого волка (вирши “Презрение достоинства и чести желание”, “Началник”), просветитель в стихах, написанных в Москве, нередко живописует тирана в образах “Махмета оттомана, солтана Цариграда” (стихотворение “Мучител-ство”) и “Дионисия мучителя” — Дионисия Старшего — древнего правителя Сиракуз, имя которого стало нарицательным обозначением самодурства и жестокости (стихотворение “Месть”, “Мечь истинны”).
Самой своей деятельностью Симеон Полоцкий утверждал в сознании современников представление об особой ценности писательского труда историка (А. Н. Робинсон назвал его “первым российским интеллигентом”). В своих письмах царю Алексею Михайловичу просветитель, не стесняясь, напоминал об оплате за сочиненные вирши — своеобразном гонораре.
Вслед за Симеоном Полоцким профессиональными литераторами и историками будут ощущать себя Сильвестр Медведев и Карион Истомин, Димитрий Ростовский (по завещанию которого в гроб вместе с телом усопшего митрополита были положены черновики его трудов) и Феофан Прокопович.
Большой вклад внес Симеон Полоцкий в становление русской придворной панегиристики, утвердив должность первого официального придворного поэта и историка в России. После смерти просветителя на эту должность будут претендовать Сильвестр Медведев, Карион Истомин, а ориентироваться на панегирическую традицию, заложенную Симеоном, умело использовавшего опыт польской стихотворной культуры, будут Стефан Яворский и Варлаам Ясинский, Димитрий Ростовский и Игнатий Римский-Корсаков, братья Лухиды, Карион Заулонский.
Русские писатели и историки конца XVII - первой половины XVIII в. унаследовали и стремление Симеона к учительству, к “опекунству” над кон-
213
кретным учебным заведением. По примеру Симеона Полоцкого Сильвестр Медведев в 1681 г. возобновил на средства царя Федора Алексеевича, ученика Симеона, славяно-латинское училище в Заиконоспасском монастыре (где, как известно, когда-то преподавал сам Симеон). Здесь оно просуществовало до 1687 г., когда “мудроборцы” добились ликвидации училища, недовольные его латинской, западной ориентацией. Пытались организовать свои школы латинского направления Стефан Яворский, Димитрий Ростовский, Андрей Белобоцкий.
Владельческие надписи Симеона Полоцкого, сохранившиеся на книгах из его библиотеки, подтверждают, что иеромонах, десятилетие прожив в православной Москве, считал себя членом униатского ордена базилиан. Реформированный орден базилиан свое основное внимание посвятил увеличению числа школ и изданию теологической литературы, что во многом определило, очевидно, и деятельность просветителя в Москве.
В разное время принимали униатство Стефан Яворский (в унии — Станислав) и Феофан Прокопович (в унии — Самуил).
В самом конце XVII в. главным училищем России стала Спасская академия в Москве в Заиконоспасском монастыре, уже в 1700-1701 гг. она была перестроена по киевскому образцу в латинскую школу под протекторатом Стефана Яворского, пригласившего многих преподавателей из Киева.
Панегирические памятники второй половины 1660 - начала 1680 г. убеждают, что настойчивые попытки добиться основания как латино-, так и греко-русских светских и духовных училищ нового образца связаны с деятельностью Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева.
Определение “латинствующие”, вызванное обвинениями в пристрастии к католическому вероучению и выдвинутое в полемике врагами писателей, не соответствовало истинной позиции этих сторонников просвещения России.
Так называемые “грекофилы” выдвинули мысль о необходимости изучения греческого языка и литературы лишь тогда, когда в конце 1670 г. усилиями Симеона Полоцкого стал реальным проект Академии для подготовки европейски образованных светских и духовных кадров.
“Мудроборцы” (определение Гавриила Домецкого) выступают с негативной программой запрещения или существенного ограничения изучения латинского языка и “немецких” книг как средства ограждения России от проникновения западно-европейской научной и общественной мысли. Заручившись поддержкой патриарха, “мудроборцы” стремились основать вместо академии духовные училища.
Грекофилы полемизировали с латинистами отнюдь не по поводу доказательных методов — они у тех и других были общими, исходящими из идеи “писанного разума”, — не случайно в библиотеке Епифания Слави-нецкого, по подсчетам С. П. Луппова, из 72 книг 38 были латинскими, а в
214
описи домовой казны опального патриарха Никона, сделанной 31 июня 1658 г., значилось, по данным Б. В. Сапунова, 1297 единиц, из которых нерусских — 837, то есть более 60%.
С православной точки зрения, эволюция от “любомудрия” к “мудробор-честву” оборачивалась объявлением войны схоластике католического образца, “внешней мудрости”, позитивистскому подходу к вероучению.
Согласно православному вероучению, индивидуальное, личное спасение невозможно, необходимо соборное, то есть при условии обновления всего мира. Личное же спасение как единственно возможный путь для человека утверждали богословствующие католики и протестанты. Влияние на эволюцию к “мудроборчеству” оказала также борьба — весьма острая во второй половине XVII века — с идеями протестантизма.
Об обострившихся противоречиях между московскими монахами и выходцами из бывших земель Речи Посполитой свидетельствует история зверского убийства стрельцами недавно вернувшегося из киевского паломничества брата Симеона Полоцкого иеромонаха Иоаникия, происшедшее в 1674 (или 1675) г. в Трубчевском монастыре при попустительстве игумена Нектария.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН