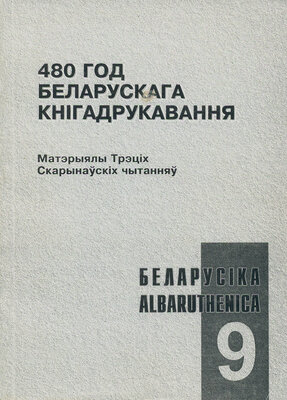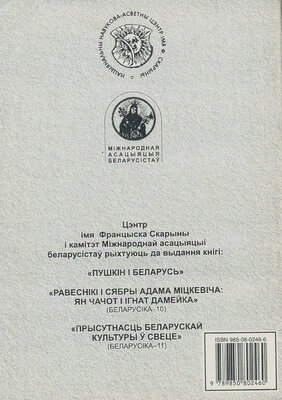480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 272с.
Мінск 1998
Усилиями московских “мудроборцев” в 1690 г. были признаны еретическими многочисленные труды Симеона Полоцкого, осужденные (сколь же велико было их влияние!) спустя десять лет после смерти автора церковным Собором. Патриарх Иоаким публично заклеймил книги писателя “как атручаные латинским духом”, ибо их автор “хотел чужемудренные новости в народ православный великороссийский вводити”.
В украинских читательских кругах книги проповедей Симеона продолжали оставаться популярными. Особенно ценились сборники “Вечеря душевная” и “Обед душевный” запорожскими казаками, гордившимися помещенной в “Вечере душевной” проповедью Симеона “Слово к православному и христоименитому запорожскому воинству”. Поэтому секретарь патриарха Адриана Карион Истомин, игнорируя решение Собора о запрещении книг Симеона, в ответ на просительное письмо кошевого атамана от 19 сентября 1698 г. высылает столь необходимые казакам книги проповедей Симеона, присовокупив патриаршее благословение.
Педагогические задачи, которые ставил перед собой Симеон Полоцкий, привели к тому, что он активно стал использовать жанр экфрасиса, который ритор Феон (I - начало 11 века н.э.) определял как описательную речь, отчетливо являющую глазам то, что она поясняет. Экфрасис, чаще всего описывающий произведения искусства, стал самостоятельным жанром в “Картинах” Филострата Старшего.
В раннем стихотворении Симеона Полоцкого “Трон истины” изобразительный источник заявлен уже в названии. В 1525 г. А. Дюрер, на рабо-
215
ты которого опирался в своих гравюрах Ф. Скорина, вставил в трактат “Руководство к измерению” свой иронический вариант “трона истины”5. Изобразительный первоисточник дал, возможно, поэту импульс и для раннего польскоязычного стихотворения “Времени премена и разность”. В нем описывается аллегорический воз жизни, заставляющий вспомнить знаменитую картину И. Босха “Воз сена” (1500-1502). В польских виршах Симеона “Триумф терпения, прекрасными образами представленный” вновь появляются эти две аллегории — “воз жизни” и трон, на котором вместо истины восседает терпение. Литературный первоисточник можно указать почти для каждого произведения Симеона Полоцкого — это тексты Священного Писания, книги Аристотеля, Плиния Старшего, трактаты отцов церкви, исторические труды византийских ученых, “четвертаки” польского писателя Яна Жабчица, новеллы, входящие в сборники “Великое зерцало”, “Римские деяния”, “Апофегмата” и мн. др.
Просветитель занят строительством “воображаемого музея” художественной культуры, которого так не хватало педагогу Симеону в реальном мире (вот почему так естественно появление этой метафоры — “музеум” у исследователя виршей Симеона Полоцкого И. П. Еремина, не потому ли духовный воспитанник Симеона Петр I создал первый музей в России — “кунсткамеру”?).
Своеобразной энциклопедией знаний об античном мире называют “Апофегматы” Б. Будного, выдержавшие в XVII в. 11 изданий, просветитель постоянно использует в своих виршах сюжеты из этой познавательной книги. Аллегория “Четыре века”, написанная поэтом еще в Полоцке, — интерпретация на тему одноименного фрагмента из “Метаморфоз” Овидия.
Симеон Полоцкий пытался ввести переводную литературу в круг чтения даже малолетнего Петра. Видимо, по его совету была создана своеобразная “потешная” книга для маленького Петра I. Ею стала “Александрия”, историческая повесть, широко известная в Великом Княжестве Литовском в XV-XVII вв.
Признание воспитательной роли театра Симеоном Полоцким имеет в своей основе традиции, бытовавшие в тех учебных заведениях, где он получал образование, — в Киево-Могилянской коллегии и в Виленской иезуитской академии. Школьный театр был составной частью педагогической программы коллегий. Недаром теоретик барокко и поэт М.-К. Сарбевский, читавший в 1618—1621 гг. курсы поэтики и риторики в Полоцкой иезуитской коллегии, придал своему трактату “О трагедии и комедии, или Сенека и Теренций” форму практического наставления для школьного театра.
Заботясь об изобразительном оформлении книги, Симеон Полоцкий в Верхней типографии начинает печатать “фражские листы”, как называли в
5 Нссссльштраус Ц. Альбрехт Дюрер. 1471-1528. М.; Л., 1961. С. 193.
21(1
России гравюры на меди, четыре из шести изданий Симеона Полоцкого, как отметила А. А. Гусева, проиллюстрированы ими 6. Здесь Симеон Полоцкий, очевидно, ориентировался на типографию Виленской академии, где с середины XVII в. активно печатают гравюры на меди украинских мастеров.
Противопоставление “наука — литература” в славянском средневековье не имело той остроты, которая ощущается ныне. Средневековая европейская наука — схоластика, активным “агентом” которой был Симеон Полоцкий, также опиралась в значительной мере на традиционные представления о мире, на ученые авторитеты и стремилась дать всем описываемым явлениям строгие дефиниции.
Нередко Симеон использовал идеи так называемой “Арифмологии”, рассматривавшей символику чисел (ее начали разрабатывать последователи учения Пифагора). Интерес Симеона Полоцкого к астрологии также нашел своебразное отражение в его творчестве и деятельности —- просветитель стал осваивать новые жанры прогностической поэзии, создаваемой по образцу гороскопа для царственного младенца (об этом свидетельствуют поздравительные вирши, созданные в жанре “генетлиакон” ко дню крещения юного Петра I). Астрология, напомним, входила в круг общих представлений таких выдающихся людей, как Ф. Рабле, И. Кеплер, Тихо Браге, Ф. Бэкон и др. В XV-XVII вв. в России были распространены рукописные сочинения, сочетающие астрономические и астрологические сведения (“Астрология”, “Лунник”, “Луцидарис”, “Альманах” и др.)7.
Учение о четырех стихиях, с которыми связывалась и “гуморальная теория”, стало предметом нескольких ранних польскоязычных виршей Симеона Полоцкого (“Четыре стихии и их действия” и др.). Античное учение о четырех “мировых стихиях” было воспринято европейской схоластикой в основном через различные толкования “Физики” Аристотеля.
Эклектическая концепция мира и человека в поэзии Симеона Полоцкого не совсем совпадала с традиционными представлениями, веками господствовавшими на Руси. Она во многом была прогрессивной для своего времени. Просветитель смог в доступной, образной форме передать те знания, которыми сам обладал.
Наука, весь комплекс историко-философских представлений выполняли важную идейно-эстетическую функцию в творчестве Симеона, внедрившего значительное число новых жанров, тем, символов и метафор в русскую культуру последней трети XVII столетия. Схоластический научный инструментарий играет в его виршах важную конструктивную роль.
6 Голенченко Г. Я. Белорусы в русском книгопечатании // Книга. Сб. 13. М., 1978. С. 110-111
’ Робинсон А Н Симсон Полоцкий — астролог // Проблемы изучения культурного наследия. М„ 1985. С. 178.
217
XVII век — век наступления науки. И если в Западной Европе это ощущалось достаточно мощно, то в России наука только пыталась делать робкие шаги. Сделав науку важным объектом осмысления, Симеон Полоцкий реально стимулировал рост духовной зрелости российского общества.
Общественно-просветительская деятельность Симеона Полоцкого неразрывно связана с процессом становления образования западнического европейского образца в рамках традиционной российской религиозной культуры, с процессом его постепенного обмирщения.
Из белорусских предшественников Симеона Полоцкого уже Ф. Скори-на пытался реализовать свою просветительскую программу в практической деятельности — поэтической, переводческой, издательской. В книгах и деятельности Симеона Полоцкого сходная просветительская программа, развившись и усложнившись, обретает общегосударственную значимость. В его ранних произведениях и преподавательской деятельности получают свое отражение исторические события эпохи и научные гипотезы, знакомящие нас с политическими симпатиями и уровнем знаний талантливого представителя восточнославянского региона середины XVII в., учившегося в Киево-Могилянской коллегии и Виленской иезуитской академии.
Именно Симеон Полоцкий, а не Николай Карамзин, как утверждает Ю. Пивоваров 8, стал первым великим старцем, взявшим на себя роль “советника царей”, первым российским историком и литератором, позволившим себе поучать власть и российское общество. Вслед за ним явились другие “старцы”, другие учителя — А. Н. Радищев, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. И. Солженицын.
Симеон Полоцкий не ставил перед собой задачу научить чему-то принципиально новому. Он стремился обобщить все, что было зафиксировано в книжной мудрости, и этому исчерпывающему знанию научить максимально широкую аудиторию. Лишь обобщение богатейшего опыта мировой учительной литературы и освоение белорусско-украинско-польского культурного пространства позволили Симеону Полоцкому реально содействовать коренным сдвигам в российском образовании.
Обращение к политической истории России второй половины XVII в. представляется необходимым для общества, вновь переживающего “смутное” время и не желающего повторить ошибки своих предков. Не случайно на страницах политического еженедельника “Столица” один из авторов-литераторов рассуждает о том, что “либеральные реформы в России — со времени царя Федора Алексеевича — проваливались еще и потому, что были безадресными, лишенными сознательной ориентации на интересы той или иной социальной группы” ’.
8 Пивоваров Ю. Карамзин и начало русского просвещения // Социум. М., 1993. С. 64.
’ Чупринин С. Есть ли будущее у русских либералов? // Столица. 1993. № 30. С. 12.
218
Но ведь именно ученик Симеона Полоцкого — юный царь Федор Алексеевич (1661-1682) открывает почетный список венценосных либералов, именно потому, что хорошо усвоил политические взгляды своего наставника Симеона.
Либеральное законотворчество, начатки боярского парламентаризма — за шесть недолгих лет своего царствования он уже начал проводить в жизнь. Но безвременная смерть помешала ему реализовать свои планы. А его младший брат — преемник Петр I, восстановил тоталитаризм в полном объеме, стремясь подавить смуту и брожение умов, вызванных либеральными начинаниями брата...
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН