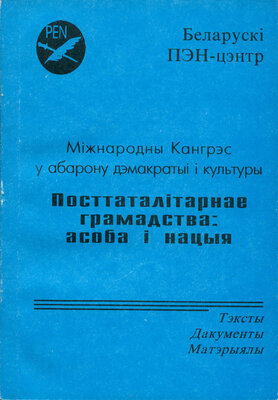Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
У сучасны момант ва ўмовах Беларусі, якая робіць першыя крокі як самастойная дзяржава, завершаная ў той ці іншай ступені канцэпцыя культуры набывае ў дадатак да яе асветна-выхаваўчых функцый болып шырокую нацыянальную ўласцівасць. Культура застаецца не проста полем нацыянальнага жыцця, а ўздымаецца на ўзровень выяўлення экзістэнцыяльнага аблічча нацыі, яе індывідуальнай духоўнай канстанты. Але тэты ўздым самым непасрэдным чынам звязаны з магчымасцямі дэмакратычных намаганняў і заваёў грамадства. Вось чаму, калі мець на ўвазе палітычныя рэаліі Беларусі, з усей падставай можна сказаць, што культура гэта дэмакратыя. Ісціна вядомая. Аднак у адносінах да Беларусі яна мае спецыфічны сэнс, які, магчыма, ужо знік як перажытачны з самаадчування іншых народаў, што маюць глыбінна замацаваную культурную традыцыю. Дзякуючы натуральнай духоўнай сіле і напорна-развітаму філасофскаму зместу яна сама можа супрацьстаяць антыдэмакратычным тэндэнцыям у дзяржаве і быць гарантам нармальнага прагрэсіўнага развіцця нацыі. Калі ж звярнуцца да абставін у Беларусі, дзе формы дэмакратычнага жыцця не ўсталяваліся. дзе, як і ў Расіі, па выразу Я. Яўтушэнкі, пануе “дэмакратыя недэмакратычная”, то тут пакуль што абарона культуры азначае абарону дэмакратыі у прамым і адкрытым сэнсе гэтага паняцця. Становішча ўскладняецца тым, што вялікая частка пісьменніцкай арганізацыі, апынуўшыся ў постсавецкай рэчаіснасці, стала адкрыта і ваяўніча падтрымліваць антыдэмакратычныя тэндэнцыі ў грамадстве, хоць некаторыя пісьменнікі з гэтай трупы раней лічылі сябе безумоўнымі дэмакратамі і гуманістамі. Гэта несумненна паслабіць інтэлектуальную напружанасць духоўнага жыцця ў рэспубліцы, раз’яднае сілы. Палітычная рэакцыя ў Беларусі можа атрымаць істотную падтрымку ў іх асобе. Хацелася б, каб лепшыя з іх, самыя таленавітыя, апамяталіся і на ўласным творчым вопыце адчулі, што толькі дэмакратычны светапогляд дае сапраўдную прастору для сапраўднай творчасці. Для творчасці, вядома, а не для жыццёвай суперуладкаванасці. Абарона дэмакратыі і культуры гэта не толькі дэкларацыі, тэарэтычныя праспекты, публіцыстычныя выступленні, хоць і яны несумненна, дужа патрэбныя. Гэта ўрэшце наша штодзенная праца па стварэнню напружанага духоўнага жыцця ў рэспубліцы, па стварэнню такой атмасферы, калі б немагчымым было распаўсюджванне маларазвітых і абскурантысцкіх поглядаў на стан рэчаў у нашай краіне. Хай запануюць у нас сапраўдныя дэмакратыя і культура! Хай яны прынясуць шчасце нашаму народу! Светлана Алексиевич А СПРОСИТЬ НЕ У КОГО... (проблема документа в искусстве и жизни) Я хотела бы поклониться светлой и чистой памяти Алеся Адамовича (немногим из этого времени удалось сохранить в такой чистоте свое имя и дело, как ему). Но грустно сегодня не только потому, что его нет среди нас, но и еще оттого, что вся эта большая и красивая жизнь прошла на баррикадах. Мальчишкой в пятнадцать лет он ушел в партизаны... Умер на суде, через несколько минут после последнего своего выступления в защиту, я бы сказала, человека в человеке... Жизнь кончилась, а баррикады нет... Вся наша жизнь — это баррикады. Уже какое поколение... И мое поколение, которое идет вслед, тоже обречено на баррикады. И дальше... Как же нам защищать единственную человеческую жизнь? Что мы можем? Что может слово? То, чем я занимаюсь уже 20 лет — это документ, документ в форме искусства. Это — четыре документальные книги, три пьесы — на основе документа, около двадцати документальных фильмов. Но я не знаю, что такое — документ? Чем больше я с ним работаю, тем больше у меня сомнений. Единственный документ, документ, так сказать, в чистом виде, который не внушает мне недоверия, — это паспорт или трамвайный билет. Но что они могут, если бы даже сохранились, через сто или двести лет (дальше сегодня и заглядывать нет уверенности) рассказать о нашем времени и о нас? Только о том, что у нас была плохая полиграфия... Все остальное, что мы знаем под именем документов, — версии. Это — чья-то правда, чья-то страсть, чьято ложь, чья-то жизнь... Два обстоятельства заставляют меня сегодня, как никогда раньше, пристально и тревожно вглядываться в эту проблему (проблему документа в искусстве и жизни). Первое обстоятельство — это суд надо мной и моей книгой “Цинковые мальчики” о преступлениях афганской войны, когда документ вплотную, врукопашную столкнулся с массовым сознанием, тогда я еще раз поняла, что не дай Бог, если бы документы правили современники, если бы только они одни имели на них право. Если бы тогда, 30-50 лет назад, они переписали “Архипелаг ГУЛАГ”, Шаламова, Гроссмана... Второе обстоятельство, которое заставляет меня сегодня говорить о документе, — это наше время. Время разлома, распада, почти геологического сдвига... Вдруг все стало значительным: то, о чем пишут газеты, что слышим и видим по телевизору, и случайный разговор в троллейбусе, и собственные ощущеия и мелочи каждого дня. Как когдато в воспоминаниях 3. Гиппиус меня остановили совершенно незаметные, бытовые детали — и через них запомнился и проявился весь трагизм 17-го года. Революционный голод... Революционный террор... Интеллигенция голодает (она революции не нужна), чтобы выжить, продают вещи, драгоценности за кусок хлеба, полфунта муки. Гиппиус пишет, как идет на рынок, чтобы продать свои туфли, но их никто у нее не покупает. Эти туфли, как ненужные детские игрушки в руках фабричных женщин. На улице другие люди... У них другой размер обуви... И чувств... Или, например, как описывает в своих записках первые дни революции великая русская балерина Кшесинская: по ее разграбленному дому разгуливает Коллонтай в чужом горностаевом пальто, матерятся матросы и хотят пристрелить хозяйку, “славу и украшение русского балета” (из царской записки) только потому, что одна для них тщедушна (опять нужны другие размеры), и дорогая ванна, полная окурков... Я о том, что детали и мелочи всегда больше и ярче свидетельствуют о человеческой жизни, чем идеи. Они трагичнее, потому что близки и узнаваемы нашему зрению из любого времени. Так и сегодня ловишь себя на мысли, на желании все запомнить, все записать... Уходит эпоха. Эпоха, которую назвали эпохой великого обмана. Но только проклиная и унижая ее, мы не много поймем — ни в ней, ни в себе. Может быть, придут новые поколения, беспристрастные поколения — и они поймут и скажут больше (как мы сегодня о ленинских и сталинских лагерях). Скажут о том, что в большевизме, в советизме было и гибельное присутствие романтизма, утопических надежд наивно-трогательной (безграмотной) веры в будущее. Слишком много крови и братских мопы позади, чтобы думать иначе. Мы должны оставить честные свидетельства. Документы. Но все тот же вопрос: а что есть — честное свидетельство? Документ? Правда времени? То, что мы называем правдой сегодня? Наши заблуждения, страсти, предрассудки, инстинкты?.. У Альберта Камю: “Правда таинственна и неуловима и ее вечно приходится завоевывать заново”. Завоевывать в смысле постигать, а не оккупировать... Матери погибших в Афганистане сыновей пришли в суд с портретами своих детей, с их медалями и орденами, они плакали и кричали: “Люди, посмотрите, какие они молодые, какие они красивые, наши мальчики, а она пишет, что они там убивали”. А мне они говорили: “Нам не нужна твоя правда, у нас своя правда”. И это правда, что у них своя правда. Так что же такое — документ? Насколько он во власти людей? Насколько он принадлежит людям, а насколько истории и искусству? Для меня это мучительные вопросы... Давайте пройдем путь от реальности к ее овеществлению в слове, благодаря которому она остается в архиве человечества. Но с самого начала, тут же надо признать, что реальности в форме настоящего времени как бы не существует. Нет настоящего, есть прошлое и будущее, или то. что Бродский назвал “настоящим продолженным временем”. То есть реальность — это воспоминание. То, что было год назад, то, что было утром, или час, или даже секунду назад — это уже не настоящее, это уже воспоминание о нем. Это уже исчезнувшая реальность, оставшаяся, остановленная или в памяти, или в слове. Но согласитесь, что память и слово — очень несовершенные инструменты. Они хрупки, они изменчивы, они зависимы. Они — заложники времени. Между реальностью и словом еще находится свидетель. Три свидетеля одного события — это три версии... Три претензии на истину. Лидия Гинзбург, тоже много лет приглядываясь к документу, писала, что, исследуя мемуары, она обнаружила, что чем талантливее мемуарист, тем больше он врет, то есть тем больше в написанном его самого — его воображения, чувств, интерпретаций, догадок. Так и мои герои, мои рассказчики — талантливые заполняют время, события своим отношением к нему, они его как бы творят, более достоверны, скрупулезны обычные люди, но я-то ищу талантливого рассказчика, который не просто живет, а запоминает, как он живет, потому что у обыкновенных рассказчиков другой грех — они не слышат музыку бытия, протекания через наши жизни высшего смысла, не улавливают многоликой связи между событиями, между рациональным и иррацинальным. И потому то, что называется материальностью документа, ткется из многих голосов... Ощущение точности и единичности рождает множестенность... А это то, что неподсудно любому суду, тем более Центральному суду города Минска, где судили мою книгу... Перед этим бессильны и пристрастные современники... Из многих рассказов-версий, исповедей-версий рождается версия времени. Образ времени. Он собирается из всего пространства времени, из всех его голосов. Версия — это скорее автопортрет нашей души, а не реальности. Я так и определяю жанр, в котором работаю, история чувств. Мой факт — чувство! От книги к книге складывается энциклопедия чувств (внутренней жизни) людей моего времени. Тех поколений, которые я застала на излете, и тех, что прошли рядом со мною, и тех новых, чей приход я, надеюсь, еще встречу... Как они, так и я (мои чувства, мой отбор, мое отношение) такой же документ, как и то, что они мне рассказывают, свидетельствуют: как мы верили, что называли добром, а что злом? Как любили? Почему убивали друг друга?
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН