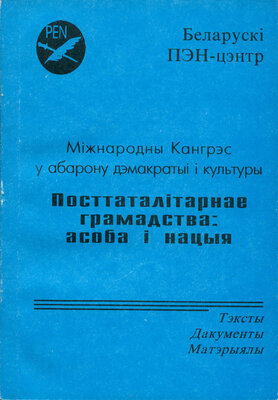Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
журналістаў. Новыя маральна-этычныя нормы павінны мець сілу закона і быць аднолькавымі для ўсіх краін. I ўсталяваць іх павінны не кіраўнікі дзяржаў, юрысты ці дыпламаты, а самі творцы. Нашы “творчыя” саюзы, пабудаваныя на прафесійнай прыкмеце, дагэтуль дзейнічаюць па прынцыпу кармушак і размеркавальнікаў. Галоўным аб'ядноўваючым фактарам новай асацыяцьіі творцаў павінен зрабіцца новы кодекс маральна-этычных нормаў і прынцыпаў. За парушэнне нормаў, прынятых новай асацыяцыяй, канкрэтны творца ці пэўнае выданне не прыцягваліся б да юрыдычнай ці адміністраційнай адказнасці. Яны, напрыклад, пазбаўляліся б эмблемы асацыяцыі, а гэта азначала б, што іхняя дзейнасць не спрыяе мэтам дэмакратьй. Я разумею, што мая прапанова можа быць успрынята як заклік да вяртання цэнзуры і ўсталявання новай інквізіцыі. Мы так доўга жылі ва ўмовах забароны свабоды думкі і палявання на ведзьмаў, што баімся ўсяго, што нагадвае нам пра гэта. Але ці не ёсць тэты страх недаверам і непавагай да саміх сябе? Ці маем мы права надалей мірыцца са свабодай крывадушша, хлуснёй, спекуляцыяй у нашай культуры і масмедыя? Пабудова свабоднага ладу не можа ажыццяўляцца без адначасовага стварэння новай сістэмы абмежаванняў. Першы крок у гэтым накірунку мы можам зрабіць ужо на гэтым высокім сходзе. Александр Дракохурст СТЫД, УПРЯТАННЫЙ В НЕСГОРАЕМЫЙ ШКАФ, или ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ГАЗЕТ БЕЛАРУСИ Каждое утро у газетных киосков Минска и других городов республики выстраиваются длинные очереди хмурых, спешащих на работу людей. Им мало телевизионных и радионовостей, им нужен газетный лист, в котором они привыкли находить не только вести из “горячих точек” СНГ и планеты, не только ставшую уже обычной информацию о неирекращающихся разборках в парламенте, но и некие ориентиры в этом взбаламученном и суматошном мире, которые ежедневно ставит перед ними жизнь. В этой ситуации исключительно велики роль и ответственность журналиста, публициста, исключительно важны его нравственная позиция, его желание и умение, говоря словами Солженицына, жить (и. разумеется, писать) не по лжи. Увы, круг независимых изданий, в которых журналисты поступают именно так, крайне узок. Смелые, честные, пусть не всегда безупречно выверенные голоса все чаще тонут в согласном хоре, дружно тянущем прежние, не позабытые с тоталитарных времен песни. Разница лишь в том, что если раньше все определялось коммунистической идеологией и партийным руководстом, то теперь средствами массовой информации почти безраздельно владеет “партия Совмина”, которая жестко определяет их лицо и направленность. Наверное, есть смысл ввсети понятие “дотируемая пресса”. Большинство изданий, выходящих в республике, к великому сожалению, относятся именно к ней. И, хотя все понимают: в наши дни без финансовой помощи и поддержки не проживешь, —тесная зависимость от них оказывается иногда пострашнее отмененной цензуры. Буквально на наших глазах разыгралась в парламенте драма видного политического и государственного деятеля Беларуси, ученогофизика Станислава Шушкевича. После декабрьских выборов в России бывшая партноменклатура, которая контролирует парламентское большинство в Верховном Совете, решила, что пришло время вышибить его из председательского кресла. Как и следовало ожидать, проправительственная и прокоммунистическая пресса в очередной раз агрессивно набросилась на Шушкевича, не прощая ему прежних попыток отстаивать собственный взгляд на проблемы коллективной безопасности, на характер и ход экономических реформ, не прощая интеллигентности и благородства. Громогласно заявив о “полном параличе всех ветвей власти”, “Советская Беларуссия”, к примеру, прозаично персонифицировала: “Если... вам не под силу, — отойдите в сторонку. Отойдите сами... У всякого терпения есть конец...” Когда стали известны результаты голосования, и Станислав Шушкевич вынужден был покинуть место спикера, с какой нескрываемой радостью, с каким захлебом та же газета сообщала своим читателям: “Белорусский парламент вышел, наконец, из шока августа 1991 года. Он длился более двух лет. Все это время вещали националистические оракулы. Аморальные ситуации создавала непоследовательность спикера...” И далее — уже совсем победно, ликующе: “Пал первый беловежский зубр”, “Ушел деятель “формации Горбачева”. зачеркнут “политический ноль”... И после этого автор близкой по духу “Белорусской нивы” деланно удивляется, почему “лидеры оппозиции в ситуации с Шушкевичем видят лишь непрекращающиеся происки коммунистической номенклатуры”? А что это было, с позволения сказать? Рутинная парламентская процедура?.. Как бы не так! Деланный наив. на мой взгляд, не смог ввести в заблуждение даже самых неискушенных читателей. Тем более, что едва завершилась кампания по устранению Шушкевича, как сразу начала набирать обороты другая, явно инспирированная “партией Совмина”. На этот раз средства массовой информации должны были убедить жителей республики и в первую очередь рабочих в том, что бессрочная политическая стачка с требованием немедленной отставки правительства и проведения новых выборов неминуемо провалится. И управляемая пресса, радио и телевидение, услыхав команду “сверху”, принялись за дело — улещивать, дезинформировать, дезориентировать. С привычной разухабистостью они в один голос забубнили: “Кому это нужно?”, “Стачка как авантюра”, “Такие игрища мы не поддерживаем”, “Здравому смыслу с амбициями не по пути” и, наконец, как заклинание: “Апрель 1991 года не повторится!” А когда в силу целого ряда причин на площадь Независимости народу пришло меньше, чем ожидалось, — до чего же дружно злорадствовали по этому поводу те. кто не прочь выставить себя “защитниками народных интересов”! Старательно выполняя “социальные заказы”, они почему-то предпочитают пользоваться военной терминологией — “наступление”, “бой”, “сидение в окопах”. Ну, и как же в этом случае обойтись без главного — без образа врага? И вот уже из деформированной и мифологизированной жизни, которой мы жили свыше семидесяти лет, снова старательно извлекается и обновляется применительно к новому времени этот памятный пропагандистский жупел. Тут уж, как говорится, не до нравственных принципов, не до верности фактам и взвешенности аргументов, — во весь голос, громко и истерично: “Ату его! Ату!.. ” Кого — его? Ну, конечно же, в первую очередь Белорусский народный фронт, главного врага, постоянно и целеустремленно травимого официальными и неофициальными средствами массовой информации. Оговорюсь сразу: я принимаю не все программные установки БНФ и его лидера. Известная статья Зенона Позняка “О русском империализме”, с моей точки зрения, не свободна от перехлестов, в ней немало спорных мест. Но одно дело — идеологический спор, пусть острый и бескомпромиссный, а совсем другое — откровенные и безудержные поношения, стремление представить БНФ, его руководителей и активистов не только оголтелыми "национал-экстремистами”, но и, — вспомнив излюбленную формулу сталинских лет, — “прислужниками капиталистического Запада”, которые пытаются “выращивать белорусскую демократию в американской пробирке”. Скорбя о временах крутых большевистских разборок, “Белорусская нива”, например, почти в каждом номере пишет о “сознательно рассчитанных провокациях”, “пещерной русофобии”, о “всепоглощающем чувстве ненависти” у тех, кого она относит к “белорусским национал-радикалам” и которые якобы способны лишь “проклинать, проклинать и проклинать” коммунистов и русских... Другая газета, уже цитированная мною “Советская Белоруссия”, пренебрежительно отозвавшись о “тарабарско-белорусском языке, на котором изъясняются наши националисты”, выступает не менее “круто”. “Откуда такая сверхоткровенность, граничащая с той, на которую способен человек лишь после порядочной дозы спиртного? — вопрошает она, обрушиваясь на лидера БНФ. — Это не крик души, а писание “от лукавого”. Сгинь, сгинь, нечистая сила!” Думаю, комментарии излишни. Но это еще не предел: цинизм беспределен. Недавно мы похоронили Алеся Адамовича, прекрасного писателя и мужественного человека. Немногим более, чем за год до смерти он опубликовал в Минске книгу публицистических статей “Апокалипсис по графику”. Книгу страстную, гневную, талантливую. Книгу в защиту людей, ввергнутых в чернобыльский ад не только ядерной катастрофой, но и трусливой ложью партийных верхов, подлым замалчиванием этого поистине планетарного бедствия. Ответ не замедлил последовать. Все помнят его. “Блевотина” — истерически вопил заголовок в необольшевистской газете “Мы и время”, именующей себя “независимой левой”. Читатели с издевательской ухмылкой уведомлялись, что автор книги о ядерном апокалипсисе на фотографии “похож на задумчивого святого или весьма оскорбленного еврея”. Нужно ли говорить, какой желчью и ядом, какой отравной злобой был пропитан этот опус?! А в скорбные дни прощания с Алесем Адамовичем над куцей информацией о его смерти, напечатанной в газете “Во славу Родины”, чья-то рука, не дрогнув, вывела; “Уходят из жизни писатели...” Вот так, не один — неповторимый, высокоодаренный, имеющий мировое писательское имя, а, видите ли, многие — близкие, безымянные... Уходят — и все тут. Сколько в этом неприкрытого стремления замолчать трагический уход яркой писательской личности, сколько неуважения и неприятия! Впрочем, это так естественно для газеты, которая в прошлом не слишком жаловала творчество Адамовича, которая до сих пор убеждает своего читателя, что, “будучи на голову выше — если хотите в чувственности (я оставляю в неприкосновености авторский стиль. — А. Д.) в нравственности, чем заокеанские наши наставники, мы преспокойно забываем свое, родное. Как будто чужестранное лучше и краше...” Чувствуете? Пахнет чем-то отвратительно знакомым. Ну, конечно же, это раскавыченная сталинская цитата, которую затрепали “бойцы идеологического фронта” во времена не забытой еще борьбы с “низкопоклонством перед иностранщиной”! “Стыд, в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд?” — хочется с горечью повторить вопрос одного из героев Бабеля. Вопрос, разумеется, чисто риторический. Те, кто так пишет, все равно останутся “верными подручными” сил, которые ведут рискованные политические игры в сужающемся пространстве между неокоммунизмом и жириновщиной.
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН