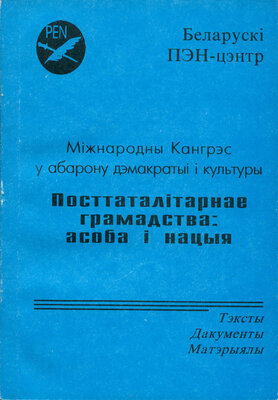Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Евген СВЕРСТЮК ЦЕНА СВОБОДЫ ВЫБОРА Свобода слова была извечной мечтой интеллигенции в Российской империи. Как мечта узника о небе. Но не только интеллигенции. После войны среди крестьян Западной Украины ходил анекдот о слове. Красные освободили. На стенах замазали вчерашние повстанческие лозунги: “Свобода народам Свобода человеку”. Землю отняли. В колхоз согнали. “Все отдам. говорит дядько, только б дали по радио сказать одно слово всему миру. Только одно слово :”Рятуйте!” Великая вера в силу слова. Наивная вера в понимание и отзывчивость мира. В народе живет извечная вера в необъяснимую силу слова и чувство той истины, согласно которой “В начале было Слово”. То слово, которое выражает смысл явлений и крик души. Собственно, из такого слова и возникает творчество, жаждущее свободы. Ему нужно небо, а не потолок, который дарят сверху”удобства ради”. Самые дорогие украинские могилы могилы борцов и мучеников за свободу от Тараса Шевченко до Василя Стуса, погибшего в Пермской области в карцере 36-й зоны особого режима уже в 1985-ом. Цену свободы мы оплатили сполна. Но свобода всем нам упала вдруг. Вместе с падением экономики и жизненного уровня. Мы ее ждали, как манны небесной, ждали столетиями. Но многие не заметили и не возрадовались. Надо прямо сказать, что верные слуги режима, среди них и многие писатели, в ней и не нуждались. Они даже обозлились на эту самую свободу... Словом, великий праздник в честь свободы в советском обществе не получился. Все пошло по кругу, начертанному в “Великом Инквизиторе” Достоевского, с той, однако, поправкой, что против Христа и против его возвышенного дара свободы поработало несколько поколений учителей материализма, требующего превращения камней в хлебы. Это с одной стороны, а с другой поработал век унылого потребительства... А все-таки главное препятствие на пути духовного раскрепощения в неготовности человека принять бремя свободы. Свобода ждет своих верных, отважных и влюбленных рыцарей, чуточку Дон-Кихотов, за которыми пойдут Санчо Пансы. В полуинтеллигентской среде, в обществе, строящем коммунизм, этот тип отважного человека, верующего и жаждущего подвига, был искоренен. Сохранился только тип тихого мечтателя, не имеющего последователей... Поначалу вожделенной свободы требовала нагроможденная энергия отрицания и разоблачения. Мощная волна смыла железный занавес и несколько смяла другой занавес, построенный человеком внутри себя удобства ради. Это было захватывающее зрелище падение крепко построенных железобетонных кумиров в присутствии их строителей и почитателей. Оказалось, никто из клявшихся и лобызавших не готов положить свой живот за них. Оказалось, все было только корыстной игрой, рассчитанной на загипнотизированную массу, деморализованную террором. Зрелище быстро приобвыклось, волна стала мелкой, и обыватель потребовал не зрелищ, а хлеба. Запретный плод свободы потерял свой аромат. На волне отлива обнаружилось, что освобождение нации связано с экономической независимостью, свобода личности это прежде всего выработка внутренней свободы. Без внутренней культуры и духовных потребностей свобода дар бесплодный. Его не приемлют, более того, его охотно разменивают на пустые декларации. На этой мели встречаются и делают одно дело и крайне левые, и крайне правые, для которых свобода всего лишь удобный случай пробраться к власти. Они рассчитывают на массу, обещают ее накормить, они говорят на очень понятном и привычном языке. Я не думаю, что нам угрожает возврат к строительству коммунизма. Но нам серьезно угрожает дальнейшая профанация ценностей и деморализация человека на пути внешней иммитации. Мы пережили бескровный переворот, который, в сущности, был просто падением прогнившего режима. Нормально такой переворот должен кончаться судом над теми, кто беззаконно расправился с четырьмя поколениями лучших людей страны. Такой суд нужен не для расплаты с соучастниками злодеяний против человека, а скорее для квалификации их беспрецедентных деяний и для размежевания добра и зла в представлении людей нынешнего поколения. Иначе нам угрожает сохранение старых лживых понятий, сохранение рабского угодливого языка полуправды, легко переходящего от одной конъюктуры к другой. Ведь инерция размывания традиций и национальных ценностей продолжается параллельно с разговорами о возрождении. Большевистский режим создал тип человека, органически враждебного культуре, которая причислялась к старой надстройке. Наступление на культуру шло широким фронтом, однако при этом разрешалось использование ее элементов для потребностей идеологии. Ядро культуры ее духовная основа считалось враждебным “единственно верной идеологии". Ныне этот человек, сохранивший свою власть и свой утилитарный стиль мышления, остается силой антикультурной. У него нет органической причастности к культуре и нет понимания ее живых источников. Между тем культура создается и сохраняется людьми, беззаветно преданными ей. В посткоммунистическом мире декларированные ценности упали вместе с режимом, который их поддерживал всеми своими средствами. Для “кадров, которые решают все”, нынешний мир это мир без ценностей, и потому он хуже. Отказываясь от своих собственных идолов, эти кадры не могут уважать национальных и общечеловеческих святынь. Отсюда их полное неверие и равнодушие, выходящее за границы приличия. Мы переживаем переходный период. Человек вчерашнего дня продолжает свое деструктивное дело. Воспитанный на эклектической философии материализма и на практике безнаказанности, он готов еще и еще раз испытывать на нас модель “социализма с человеческим лицом”. Семьдесят лет он не верил ни божественной мудрости, ни опыту человечества. Не верит и теперь. А ведь в сущности все его мотивы на поверхности: лишенный инициативности, принципов и долга, он просто не способен действовать в условиях свободы. Все его привычки бесконтрольно властвовать, хвастать, обещать и не выполнять обещаний тянут его в привычную колею. Вот и вся философия. Но в этой философии есть зародыш социальной опасности: логика выживания толкает лжеца на путь репрессий и преступлений. Он начинает с дискредитации чужих ценностей. Свободу он всегда именовал “так называемой”. Ныне, когда она снизошла до уровня равнодушной улицы, мелкие торгаши стали торговать ею, бравые шелкоперы играться, опытные душители вымучивать. Словом, на развалинах Вавилонской башни смешались понятия, и слово потеряло свой вес. Разве можно бороться за свободу слова, потерявшего вес? Одна из хитрых козней дьявола подменить клад слово, превратить его в орудие обмана и пустить в спекуляцию. За такое слово никто не пойдет в тюрьму. За такую свободу слова бороться никто не станет... Как раз удобный момент прибрать такую постылую свободу к рукам! Мне представляется своевременным направить усилия интеллигенции на защиту свободы слова. На защиту авторитета слова. Но практически это значит прежде всего бороться с инфляцией слов. Вернуть слову его изначальную силу его источник. “И приступил к Нему искуситель и сказал: “Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами”. Он же сказал ему в ответ: “Написано: “Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих” (МФ. 4, 3-4). Упомянутый великий Инквизитор уточнил мысль искусителя: “Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они. в простоте своей и прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого бояться они и страшаться, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!”. Наши малые инквизиторы тоже понимают уровень масс, на оторый они всегда ориентировались. На сцену выходят Хлестаков. Ноздрев и Чичиков, одержимые утробной тоской по скатертисамобранке Привычным движением они разворачивают позапрошлогодние газеты, где черным по белому написано о “всеобщем благо- 3. Зак. 6073 33 состоянии трудящихся в СССР”. И народ, продукт своей эпохи, избирает Ноздрева, Хлестакова и Чичикова своими представителями в парламент. А там уж они определят меру свободы. Что же делать хранителям ценностей перед лицом этого вторичного единения “партии и народа”? Им, конечно, следует напомнить и объяснить слова их учителя насчет истории, в которой то, что первый раз выступало как трагедия, при повторении уже оборачивается фарсом... Но, главное, необходимо наполнить живым и жертвенным смыслом божественный дар свободы. Все наши завоевания это только начало борьбы. Последний вывод мудрости Фауста вечно напоминает: Лишь тот достоин жизни и свободы. Кто каждый день идет за них на бой. Все наши упущения от неготовности следовать этому выводу, предостерегающему от вечных повторений. Дар свободы обязывает человека вечно делать выбор, трудный выбор. Идеалисты всех времен начинали с выбора узкого пути. По Евангельскому Завету. Украинская литература вообще стала возможна как выбор по долгу сердца против течения. По своему статусу в империи она была оппозиционной, так как, согласно царскому указу, “украинского языка нет, не было и быть не может”. Но это еще не тот выбор, который сообщил ей дух и образ. Главный выбор делал сам писатель. Следуя традиции антиимперской, национально-освободительной, он выбирал Шевченковский путь гонимых аресты, тюрьмы, ссылки и, как минимум, положение поднадзорного. При большевистском режиме до войны было ликвидировано двести пятьдесят украинских писателей. После этого урока украинские шестидесятники сделали свой выбор и пошли в лагеря. Больше десяти из них стали почетными членами зарубежных центров Международного ПЕН-клуба. Нам ли не праздновать свободу? Но свобода окупается жертвами. Праздник, кажется, затянулся. А между тем, на горизонте бодро шагает Чичиков в обнимку с мертвыми душами. Ноздрев одобрительно приветствует шельмеца Хлестакова, знающего толк в свободе. Но не столь отдаленно возвышаются потемневшие кресты, словно камертоны, напоминающие верный тон и отсекающие фальшивые голоса. Что ни говорите, и слово, и крест символы свободного выбора. Наталья Довнар О СВОБОДЕ ПЕЧАТИ
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН