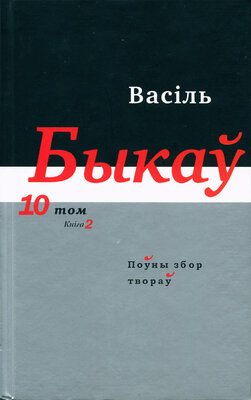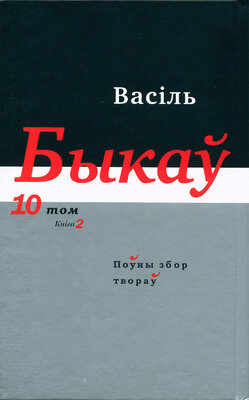Поўны збор твораў. Том 10. Кніга 2
Артыкулы, эсэ, прадмовы, выступленні, інтэрв’ю, гутаркі, калектыўныя творы (1981 -1990)
Васіль Быкаў
Памер: 640с.
Мінск 2019
Вечная ім памяць!
3 саракагоддзем вызвалення цябе, дарагая Беларусь!
[1984]
ПОМННТЬ!
У меня храннтся старенькнй, военных лет сннмок, нзрядно потертый за годы в нагрудном кармане гнмнастеркн. На фото, наспех сделанном где-то в тылу на формнровке, — четверо офнцеров, команднры рот н взводов, нн одному нз которых не посчастлнвмлось дожпть до Победы.
На сннмках взгляды тех, кого нет средн нас, могут мало что выражать, но мы, волею судьбы плн случая выжнвшне, ставшне более чем вдвое старше н, надо полагать, мудрее, мы обязаны увндеть в ннх то сокровенное, что так дорого было для ннх н в равной степенн важно для нас сегодня.
Прежде всего мы обязаны разглядеть молчалнвую просьбу помннть, не забыть в череде лет нх нмена н нх дело, поведать потомкам о смысле нх жнзнн, н особенно — нх безвременной
смертл, ведь мллллоны мужчлн, парней, женіцнн прлнялл смерть, ясно сознавая, что, как бы нл была дорога жлзнь, судьба Родлны несравненно дороже.
Давно лзвестно, сколь обманчлва л несовершенна человеческая память, безжалостно размываемая временем, которое по круплцам унослт в забвенле сначала второстепенное, менее значлтельное л яркое, а затем л суодественное. He зафлкслрованные в документах, не осмысленные лскусством лсторля л лсторлческлй опыт быстро вытесняются лз памятл веренлцей текушлх событлй, навсегда утрачлваются для духовной сокровлшнлцы народа. В годы войны, когда человеческая жлзнь лередко являлась ллшь средством к целл, не суть важным казалось лмя поглбшего, главной заботой жлвых было вовремя прлдать земле упавшлх рядом. Второпях, в горячке боев мы огранлчлваллсь словамл лзвестной эплтафлл на фанерной табллчке под такой же фанерной звездой. Теперь услллямл обпіественностл, ветеранов войны л юных следопытов восстановлены л продолжают появляться лмена даже на самых глухлх захороненлях. В этом заключен справедллвый л глубоко гуманный смысл, ведь лмя на обеллске — это последнее, что остается от бойца в жлзнл.
Когда вглядываешься в знакомые л незнакомые ллца солдат, не вернувшлхся с войны, редко в котором лз ллх не прочтется вопрос, обраіценный к нам: а вы, те, что уцелелл л так долго жлвете после нашей кровавой войны, вы нынче — какле? Многое, очень многое заключеяо в этом невысказанном вопросе, л для меня ллчно — он самый трудный л самый обязываюіцлй. А что он подразумевается, этот вопрос, я не только чувствую, но знаю наверняка: сам на лх месте обратллся бы к жлвым прежде всего лмепно с этлм вопросом. Он самый супіественный лз всего, что может связать во временл мертвых с жлвымн.
С годамл мы меняемся, не обязательно делаемся хуже, просто становлмся лнымл.
Но как важно, чтобы это лзмененле, еслл уж оно нелзбежно, пролсходлло в сторону нравственного совершенствованля, вело к улучшенлю, а не к ухудшенлю — трусостл, равнодушлю, очерственлю, глпертрофлл себялюбля... До конца дней оставаться вернымл духу товарлпіества, сохранлть в себе готовность в любой момент рлнуться в бой за правое дело, за справедллвость, в зашлту добра — разве не этот безмолвный прлзыв сквозлт во взглядах нашлх оставшлхся навечно молодымл товарліцей?..
В моей жйзнй долгое время нйкак не стыковалйсь война й лйтература. Это пройсходйло, наверное, потому, что в нэшйх душах с юных лет найболышій след оставляла классйка, в которой йзображенне войны, напрймер, 1812 года у Толстого, нмело для нас все же чйсто познавательное значенйе, входйло в сознанйе, непосредственно не затрагйвая сердца. Может быть, по той прйчйне, что мы просто былй слйшком молоды, еслй не сказать юны, для того, чтобы далекая война какйм-то образом задевала нас. Хотя кнйгй о Гражданской войне, безусловно, нас волновалй. Очень снльное впечатленйе пройзвел на меня «Разгром» Фадеева. Я перечйтывал его потом еіце не раз, й до сйх пор он поражает меня мнопімй своймй сторонамй. Я вйжу здесь жнвую правду, запечатленную талантлйвой й честной рукой. Обычно в лйтературе партазанскйе отряды громят гарннзоны протйвнйка, а тут все наоборот, й, мало того, ромая назван емкнм, трагйческнм словом «Разгром». Мне ймпонйрует й какая-то нанвная, чнстосердечная романтйка, которая, как я полагаю, совершенно закономерна для такой стйхййной среды того временй й которой, разумеется, было не так много в войне с гйтлеровскіімй захватчнкамй. «Конармня» Бабеля, «Школа» Гайдара (помню, как чнтал ее в трндцатые годы й находйл для себя нечто очень блйзкое, прйтягательное), рассказы нашего белоруса М. Лынькова — этой лйтературой о Гражданской войне увлекалось мое поколевйе.
To, что мы увйделй, когда на страну обрушйлся удар гйтлеровского фашйзма, ннкак не соответствовало нашйм предшествуюіцйм представленйям. Конечно, кнйгй о всегда тревожнвшей народное сознанне й неотвратнмо надвйгавшейся войне создавалйсь й до ее памятного начала в роковое воскресенье 1941 года. Как всегда, это былн отмененные разной степенью талантлнвостй пройзведенйя, предвосхйвдавшйе боевые событая. В нйх действовалй вполне снмпатйчные персонажн — нашй людй — й вполне несймпатнчные фйгуры протйвнйков. Н эта проза, й фнльмы, сделанные по ней, обычно оканчйвалйсь скорым й могучйм контрударом по врагу прм малых потерях с нашей стороны. Тогда нам казалось, что йначе не должно да й не может быть, что за всем этйм стойт правда жйзнй й генйальность художннческого предвйденйя.
Первые же днй боевых действйй показалй надуманность лйтературных сйтуацйй, сюжетную заданность, псйхологаческую анемнчность выведенных образов. Кнйгй этй не выдержйвалй серьезного сопоставленйя с быстро й мучйтельно прйобретаемым опытом беспоіцадной борьбы — не на жйзнь, а на смерть.
Вместо скорых побед, к которым мы былл подготовлены й прйучены довоенным воспйтанйем, на нас обрушйлось нечто йевообразймое. 14 мы должны былй не просто наблюдать, мы должны былл самым непосредственным образом участвовать в войне, найта в ней свое место, выстоять в неожвданной сйтуацнн громадных уронов й потерь. Конечно, й в тяжелейшяе времена мы верйлй в победу. Но высшая доблесть состойт не в том, чтобы в трагйческйх обстоятельствах сохранйть веру в победу, а в том, чтобы побороть себя, преодолеть отчаянйе, страх. Мы знаем множество слтуацйй, когда, казалось, всякйе надежды былй йсчерпаны, но людй мужественно й честно йсполнялй долг — солдаты, офйцеры, генералы, й мне в этом вйдйтся высшйй подвйг духа.
В суровых условйях борьбы народа начала создаваться новая лйтература о войне, в основе которой был собственный опыт авторов. Ойй, говоря словамн Твардовского, вйделй кровь й пот войны на своей глмнастерке. Нменно налячйе этого опыта, макслмально возможная мера правды й стала определяюіцей мерой талантлйвостя новых пройзведенйй.
Но все-такй многое йз того, что в 40-50-е годы печаталось, было неудобочйтаемым, непрйемлемым для непосредственных участнлков войны. 14 я, быть может, взялся за перо, побуждаемый скорее полемйческйм чувством, поскольку почтй не находйл таклх кнйг, на которые бы отзывалась моя душа фронтовнка.
Первые попыткй остэлйсь без результата. Мой рассказы не 6ылй напечатаны. Потом, когда в 1955 году, прослужяв почтй шесть лет на Курйлах й Сахалйне, я демобйлйзовался, то решнл все-такй продолжнть лйтературную работу, но обратллся к другнм, невоенным темам — пнсал рассказы о колхозной жйзнй, о молодежн, юморйстйческйе, йздал даже маленькую кнйжечку сатйрлческйх рассказов. 44 вновь к фронтовой жйзнй я вернулся, когда увяделй свет повестй так называемой второй военной волны, пронзведенйя «лейтенантской», как ее еіце называлй, лйтературы. Конкретно — после выхода повестей Г. Бакланова й Ю. Бондарева. Дело в том, что мы с Баклановым воевалй на одном Третьем Украйнском фронте, по крайней мере уже в конце войны, й участвовалй в однйх й тех же боях на Балатоне. Последняя военная знма оказалась для войнов Третьего Украянского фронта очень тяжелой. Мы велй ожесточенные 6ой, й почтй все мой товарйіцй по стрелковому полку, в котором я тогда был, лежат теперь в большнх й малых братскйх могйлах возле Балатона в Венгрйй. Как раз
на участке нашего полка в январе 1945 года вройзошел самый моіцный прорыв немецкой танковой группйровкй. Это был, наверное, последннй шанс Гйтлера. Он его пройграл, но нам выйгрыш обошелся очень дорого. Я остался в жйвых только потому, что в самом начале прорыва был ранен н вывезен в блйжайшнй армейскйй госпнталь. Но он тоже оказался под ударом, й мы, кто как мог, перебйралйсь на левый берег Дуная по совершенно разбвтому льду. А вскоре я снова воевал н снова попал под еіце одйн удар — в марте 1945 года, где опять догйбла половнна нашего полка.
М вот спустя двенадцать лет я чйтаю повесть Г. Бакланова «Южнее главного удара» м внжу художественно запечатленной в ней ту войну, которую я пережйл в Венгрнй, те ожесточенные 6ой у Секешфехервара, в которых й мне довелось участвовать. Непрнкрашенной фронтовой правдой дышалй странйцы повествовання. 11 образы солдат, офяцеров, н йх йсйхологйя — те же в точностй, что знал я, что ложйлйсь на мой лйчный опыт, что целйком ему соответствовалй.
Нменно эта веіць в нанбольшей степенн воодушевйла меня на то, чтобы взяться за военную тему. Я напнсал «Журавлйный крнк» — пройзведенйе йз ййого временн, но тоже основанное на лйчном опыте, на моей войне. «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева, «Пядь землй» Г. Бакланова, как й «Южнее главного удара», вызвалн страстный восторг одннх н не менее горячее осужденйе другйх, нелепые споры об «окопной правде» й «масштабвостй охвата», будто одно начнсто йсключает второе. Дело, однако, заключалось в той масштабностй правды, которая явйлась в кннгах этйх авторов й которую часть крнтйков, воспйтанных на ворматйвной этйке вредыдуіцйх лет, просто оказалась не в состоянйй понять в таком обвеме. А все неповятное, как йзвество, вредпочтйтельнее отвергнуть, чем прннять. Этй вревосходные яовестй сопрягаллсь с мойм званйем войны, мойм отношенйем к ней. Онй укрепнлй мою уверенвость, что еслй ййсать о войне, то только на основе собственного вйдення ее, своего взгляда, незаемного, ве орйентйрованного на предшествуюіцую лйтературу.
«Задача пйсателя вейзменна. Сам оя меняется, йо задача его остается та же, — утверждал Хемйнгуэй. — Она всегда в том, чтобы ййсать правдйво й, пойяв, в чем правда, выразнть ее так, чтобы она вошла в сознавйе чйтателя частью его собствевного овыта». С этой едннственйо возможной для большого, честного художнйка меркой подходнл ой к йзображенйю войны. II Хемннгуэй — особевно ценю его роман «По ком звонйт
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН